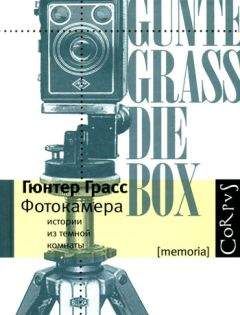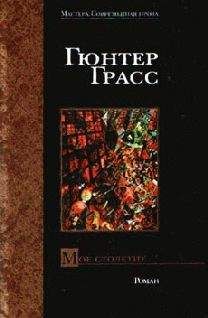Ирина Млечина - Гюнтер Грасс
Гражданская позиция Грасса, всегда открыто выступавшего против всех затаившихся и нераскаявшихся попутчиков и соучастников нацистского режима, не могла не вызывать злобы и отторжения у тех, кого он задевал.
Грасс был не единственным. Еще раньше, сразу после войны, о сходных вещах говорил Карл Ясперс. Немецкий народ, считал он, несет двойную вину. Во-первых, за безоговорочное подчинение политическому вождю и, во-вторых, за сущность вождя, которому подчинился. Немцы, уверен философ, ответственны «за режим, за деяния режима», за развязывание войны, «за того фюрера, которому позволили оказаться во главе». Как немец, как человек, говорящий по-немецки, он не может не чувствовать себя ответственным за всё, что «произрастает из немецкого». Эта мысль очень близка тому, о чем пишет в своем эссе «Германия и немцы» Томас Манн, который тоже — как немец — считает себя ответственным за всё, что совершала Германия.
Как не ощутить связи между высказываниями этих знаменитых немцев при всём несходстве их судеб и их творчества: Карл Ясперс, Томас Манн, Гюнтер Грасс. Добавим к этому размышления другого философа — Теодора Адорно, писавшего в небольшом эссе «Воспитание после Освенцима» о преодолении фашизма как общенациональной задаче. «Говоря о воспитании после Освенцима, я имею в виду две сферы… воспитание в детстве, особенно раннем; а также общее просвещение, создающее духовный, культурный и общественный климат, в котором мотивы, приведшие к ужасу Освенцима, хотя бы в какой-то мере будут осознаны». Он утверждает: «Единственной силой против принципа Освенцима могла бы быть внутренняя автономность, сила, необходимая для неучастия». Именно этой внутренней, индивидуальной силы не хватило тем подросткам, которые, как и Грасс, не хотели задавать вопросов, охотно подчинялись авторитарному насилию, целью которого и было лишить каждого той самой «автономности». Грасс как раз и пишет о готовности шагать «в общем строю», подстраиваться и выстраиваться по команде.
Нападки на его «Луковицу» довольно быстро прекратились, потому что аргументы противников были однообразны, слова невыразительны и стерты. Зато сенсационность книги способствовала росту продаж: тираж достиг величин, редких для немецкого книгоиздания.
Однако продолжим рассказ о судьбе Грасса, когда он, никому еще не известный молодой человек, получив суточный паек и документ с печатью, а также пройдя дезинфекцию, был выпущен из лагеря и оказался в краю, состоявшем из руин: «Здесь предстояло осваивать неведомую мне свободу». Как обращаться с этим подарком, он не знал. Предоставленная свобода — нетореная дорога. И паренек, случайно уцелевший на войне, пытался сделать по ней первые шаги.
Вот теперь отложенные, не заданные вовремя вопросы нахлынули на него, словно океанская волна, едва не затопив своей мощью. Ни луковица, ни волшебный янтарь не подсобят ему, когда он начнет вспоминать, что именно одолевало его более всего сразу после выхода за лагерную ограду. Думал ли он в первую очередь о родителях и младшей сестре, о судьбе которых ничего не знал; занимали его лишь собственные проблемы или те, которые в газетах уже назывались «коллективной виной»; хотел ли он прямо сразу, не откладывая, найти способы получить профессию? О каких потерях он сожалел более всего? «Похоже, молодой человек, бесцельно слоняющийся меж руин, занят лишь мыслями о самом себе…» Или это были переживания, которые трудно назвать каким-то одним словом, придумать для них точные формулировки?
Для Грасса начались «годы учения», или переучивания, как и для большинства выживших его сверстников, да и вообще переживших войну немцев. Черный рынок, требующий смекалки (а она у него была, недаром мать в детстве научила его «выбивать долги» из скупых клиентов); пачка сигарет, которая превращается в главную валюту; заботы о «хлебе насущном», ночлеге и пристанище; изучение списков разыскиваемых лиц в надежде узнать что-нибудь о своей семье — путь, полный трудностей, прежде всего материальных.
Вот он, наскоро обученный, плетется за плугом — пашет вместе с крестьянином с утра до ночи. Главное, он наконец может утолить физический голод. Остается голод сексуальный, потом к нему добавится голод творческий. Три голода, мучившие молодого человека в то полное испытаний время развалин. Случайно встретившаяся девушка, готовая утолить его «второй голод», интересуется, кем бы он хотел стать. Лежа в лунную ночь в стогу сена, он отвечает: «Хочу быть художником, непременно». Впрочем, теперь он не вполне уверен, что ответил именно так. «Хоть и поблескивает у луковицы одна мясистая кожица под другой, но ответа она не знает. Между оборванных строчек пустеют пробелы». Ему же остается лишь толковать эти недоступные памяти места, гадать, искать ответы…
Лишенный пристанища, надежного заработка, семьи, он чувствует себя подобно герою знаменитой драмы Вольфганга Борхерта «На улице, перед дверью» (1946). Этот молодой немец, вернувшийся с войны, всматривался в мир, окружавший его, и ужасался. Жена его бросила, жилья нет, он искалечен, унижен, утратил всё: кров, очаг, семью, родину, которая, как выясняется, не очень-то его ждет. Равнодушие окружающих терзает героя не меньше, чем раны и неприкаянность. Зато процветают и уже нашли теплую нишу «веселые полковники», которые на войне гнали мальчишек на передовую, на смерть, а здесь, дома, уже забыли собственную вину и ответственность. Пребывание на улице перед закрытой дверью — метафора бесприютности миллионов немцев, которых нацизм обманул и предал, пообещав им «весь мир» и превратив в бездомных бродяг. В романе Грасса «Собачьи годы» образ борхертовского героя возникнет вновь, хотя уже в привычном для автора пародийно-дистанцированном варианте.
Весной 1946-го время будто замерло для девятнадцатилетнего Грасса, который непрерывно скитался по западной части Германии, пытаясь нащупать почву под ногами. «Годы учения» выливались в «годы странствий» — прямо как в романе Гёте о Вильгельме Мейстере. Память причудливо отбирала отдельные эпизоды этих странствий, не заботясь ни о точности сюжетов, ни о достоверности деталей. Один из эпизодов этой послевоенной Одиссеи: Грасс попадает на калийный рудник, где работает сцепщиком вагонеток с калийной рудой, что требует ловкости и выносливости. Зато он больше не голодает.
Если на фронте он «научился страху», то здесь, в шахте, он учится не только выживанию, но и — впервые — пытается вникать в политические споры. Когда на руднике отключается электричество, а это случается часто, группки рабочих начинают спорить о политике. Он прислушивается, старается понять, кто за что, разобраться, на чьей стороне ему быть. Одна, самая малая, часть рабочих защищает коммунистические идеи — это остатки уцелевших еще с веймарских времен коммунистов. Другие — и их явно больше — аргументируют в духе, который ему знаком, — это всё тот же невыветрившийся дух нацизма. Эти люди повторяют пропагандистские лозунги нацистов, ищут виновных в крушении гитлеровского режима и вызывающе напевают гимн штурмовиков: «Знамена ввысь, сплоченными рядами…» Третью группу составляют социал-демократы, которые в годы нацизма воспринимались как враги обеими сторонами — нацисты презрительно именовали их «соци», а коммунисты и того хуже — «социал-фашистами». Юный сцепщик понимает не всё, что они в пылу спора кричат друг другу, но замечает, что еще недавно смертельные враги — нацисты и коммунисты — теперь нередко выступают единым красно-коричневым фронтом.