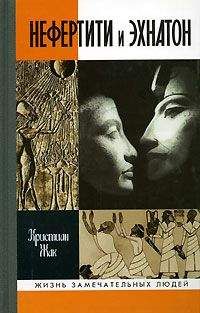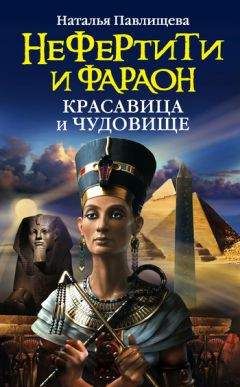Викентий Вересаев - Из книги «Записи для себя»
На эту же тему, несколько раньше Лермонтова, написал стихотворение А. С. Хомяков.
Небо ясно, тихо море,
Воду ласково журчат;
В безграничном их просторе
Мчится весело фрегат…
Дни текут, на ризах ночи
Звезды южные зажглись;
Мореходцев жадны очи
В даль заветную впились…
Здесь он! Здесь его могила
В диких вырыта скалах:
Глыба тяжкая покрыла
Полководца хладный прах.
Здесь страдал он в ссылке душной,
Молньей внутренней сожжен,
Местью страха малодушной,
Низкой злостью истомлен.
Вырывайте ж бренно тело
И чрез бурный океан
Пусть фрегат ваш мчится смело
С новой данью южных стран и т. д.
Много еще. Все так же серо и тягуче. Что должен был испытать Хомяков, после вялых своих виршей прочитав стальные стихи Лермонтова? Отгадайте. Вот что:
«Между нами буди сказано, – писал он поэту Языкову, – Лермонтов сделал неловкость: он написал на смерть Наполеона стихи, и стихи слабые; а еще хуже то, что он в них слабее моего сказал то, что было сказано мною… Другому бы я этого не сказал, потому что похоже на хвастовство, но ты примешь мои слова, как они есть, за беспристрастное замечание». (Сочинения А. С. Хомякова, т. VIII, IV, 1900, стр. 104).
* * *Идешь по улице:
– Господи, какая уродина!
Дряблые щеки, тусклые глаза, – набелена, нарумянена, ярко-оранжевые губы, наведенные брови… Для того, чтобы так накраситься, ведь ей нужно смотреться в зеркало. Как же она сама не замечает, как ее вид ужасен и смешон, как он ее унижает?!
* * *Молодой Гете приучил себя смотреть с крыши страсбургского собора вниз, чтобы отучить себя от головокружения при взгляде в бездну. Он не выносил резких звуков, поэтому ходил к казарме во время вечерней зори и слушал грохот барабанов, от которого чуть не лопалась барабанная перепонка. Испытывал невольный суеверный страх при ночном посещении кладбища, – и нарочно проводил там часы. Многие военные, чтоб приучить себя «не кланяться пулям», без нужды подставляют себя под обстрел.
Это все просто и легко исполнимо. Но вот как отучить себя от страданий самолюбия? Какие для этого способы? Нет ничего смешнее и противнее кипящего самолюбием человека. Как себя от этого избавить? Удовлетворение самолюбия ведет к все большим требованиям. От поругания самолюбия оно тоже только растет. Самолюбив и нетерпим признанный мастер. Еще, может быть, самолюбивее и нетерпимее мастер непризнанный, собственным преклонением перед собою замещающий отсутствие преклонения других. Когда жизнь одергивает зарвавшегося молодого человека, – это для него очень полезно. Но как вот самому одергивать себя?
* * *Мне кажется, я в общем не страдаю избытком самолюбия и еще больше убеждаюсь в этом, когда наблюдаю товарищей писателей.
И вот – интересное наблюдение. К столетней годовщине смерти Пушкина издательство «Советский писатель» выпустило мою двухтомную работу: «Спутники Пушкина». Издательство пересылало мне все отзывы читателей об этой книге. Раз получаю пачку таких отзывов. Один более лестный, чем другой. Казалось бы, можно бы получить полное удовлетворение. Но в пачке этих писем было также очень злое и едкое письмо одной старой учительницы. Она писала, что автор копается в грязном белье Пушкина и его спутников, что он принижает Пушкина до собственного своего пошлого уровня, что книгу его не следовало бы допускать в библиотеки и т. п.
И что же? Потонул этот отзыв в десятках хвалебных отзывов, компенсировался ли, по крайней мере, ими? Нет, Весь день на душе было определенно неприятное ощущение, со стороны совершенно непонятное. Ложка керосина а бочке душистого вина.
Вот. Какие способы бороться с подобными переживаниями?
* * *Самая плохая из всех моих вещей, это – повести «К жизни» (1908 г.). В ней как будто более или менее верно отражены настроения и переживания молодежи после разгрома революции 1905 года. Это мне еще недавно подтвердил один писатель, бывший в то время молодым а читавший с товарищами повесть эту в ссылке. Не могу также принять упрека за то, что повесть написана взъерошенным, претенциозным языком, что я в ней поддался тогдашней «моде». Решительно все другое мое, относящееся и к тому времени, написано обычным моим языком. Здесь же «поддался моде» не я, а герой моей повести, которая ведется от первого лица, в виде дневника. Мне пришлось даже ломать себя, чтобы заставить говорить моего героя языком, для того времени характерным.
Дело не в этом. Дело в гораздо более существенном. В долгих исканиях смысла жизни я в то время пришел, наконец, к твердым, самостоятельным, не книжным выводам, давшим мне глубокое удовлетворение, давшим собственное, питающее меня до сих пор знание, – в чем жизнь и в чем ее «смысл»? Я захотел все свои нахождения вложить в повесть, дать в ней ответы на все мучившие меня вопросы. Но во-первых, ответы эти для того времени и для выведенного мною лица были совершенно не характерны. Это были именно только мои ответы, для себя. Главное же, – в художественном произведении никаких таких ответов дать невозможно. Это просто – вне функции художественного произведения. Какие «дают ответы», какие «указывают выходы» даже величайшие художественные творения мира, – «Илиада», «Божественная комедия», «Гамлет», «Фауст»? Я попытался свои искания и нахождения втиснуть в художественные образы, – и только исковеркал их, получилась вещь неуклюжая, надуманная, неубедительная. Мне просто противно ее перечитывать, и если я не отказался раз навсегда от ее переиздания, то только потому, что повесть, как я уж говорил, в известной степени отражает настроения тогдашней молодежи и составляет неотделимое звено в цепи моих повестей, отражающих душевную жизнь «хорошей» русской интеллигенции, – «Без дороги», «Поветрие», «На повороте», «К жизни», «В тупике», «Сестры».
Я увидел, что у меня ничего не вышло, и тогда все свои искания и нахождения изложил в другой форме, – в форме критического исследования. Во Льве Толстом и Достоевском, в Гомере, эллинских трагиках и Ницше я нашел неоценимый материал для построения моих выводов. Получилась книга «Живая жизнь». Часть I. О Достоевском и Льве Толстом. Часть II. Аполлон и Дионис (о Ницше). Это, по-моему, самая лучшая из написанных мною книг. Она мне наиболее дорога. Я перечитываю ее с радостью и гордостью.
* * *Искренность – дело трудное и очень тонкое, она требует мудрости и большого душевного такта. Маленький уклон в одну сторону – и будет фальшь; в другую, – и будет цинизм. Способность к подлинной искренности, правдивой и целомудренной, – великий и очень редкий дар.
Поэт Н. М. Минский в начале девяностых годов выпустил книгу «При свете совести». Редко можно встретить более фальшивую книгу. Чувствуешь на каждой строке, как автор говорит себе: «Я ничего не побоюсь, я буду так правдив с собою, как никто еще никогда не был». И раздувает, размазывает еле заметные ощущеньица, смещает перспективу, во имя искренности лжет на себя и на других. Утверждает, например, что когда у вас умрет даже самый близкий, самый любимый человек, то, при самой искренней скорби, в глубине души у вас живет приятная мысль, что вот я, я теперь буду центром общего внимания, я, шатаясь от скорби, буду первый идти за гробом, и все с сочувствием будут смотреть на меня…