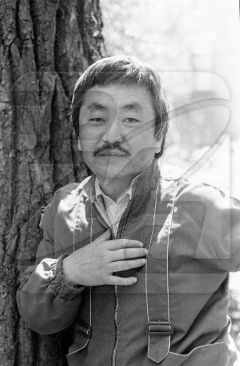Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Тетрадь четвертая: Сквозь Большую Гарь
В горнице невероятно холодно: под гулкими досками пола — пустота и в давно не конопаченных стенах — щели. Убранство комнаты говорит само за себя: огромная печь, давно не топленная, полати, печурка-буржуйка, колченогий стол под красное дерево, некогда бывший раздвижным, со множеством шатких ножек, пара лавок.
В углу гора того хлама, который сам собой зарождается в жилище одинокого старика: куча истлевших сетей, недоплетенные корзины, рассохшиеся кадушки, покоробившиеся весла и прочий никому не нужный хлам, который, впрочем, как нельзя больше гармонирует с никому не нужным, отжившим уже свой век стариком.
Мы сидим за столом и пьем чай, разумеется, вполне условный. Это густо заваренный иван-чай и брусничный лист. Пьем мы вприкуску. О сахаре, разумеется, и речи быть не может, а прикусываем мы мелкой моченой брусникой — невероятно кислой, но очень душистой. Время от времени дед вылавливает из туеска несколько ягод — для себя и для меня.
Но если чай не настоящий, то самовар — всамделишный, медный, весь в потеках ярь-медянки и накипи, с погнутым краном и помятыми боками, способный долго-долго петь свою песенку.
Сам дед как нельзя лучше вписывается в эту картину: лысенький, с седым пухом над ушами и седой пушистой бородой, он замечательно гармонирует и с помятым самоваром, и с рассохшимися кадушками, и даже с паутиной, свисающей отовсюду гирляндами. И вместе с тем он чем-то напоминает Николая чудотворца!
— Нет, милая! — говорит он. — Нет, от станка[6] до станка вдоль Оби ты не пройдешь! Раз тебя отпустили. Два отпустят. От силы — три. А как попадешь ты этакому безбожнику (а таких ох как много!), и быть тебе у того же Хохлика или как там его, анафему, звать-то? А ты подайся туда, где люди еще страха божия не утратили. Я тебя научу! Я здесь всю Сибирь-матушку во как знаю! С покойным родителем, Царство ему Небесное, я в обозе ходил и в Иркутcк, и в Челябинск. Было это еще до Балканской кампании. Затем сам извозом промышлял — в Алтай ходил, в Семиречье. Хлеб возил, рыбу соленую. А потом ям держал здесь, на Оби. Уж здешние края никто так не знает, как я! Не смотри, дочка, что я нищ и убог: не годы, а злоба антихристова к земле меня пригнула. Теперь уж мне крыльев не расправить! Летывал я, бывало, в такие края, где и волку путь заказан и лишь орлу доступ есть! Так вот, слушай! Иди ты отседа до деревни Воробьихи. Пройдя ее, поверни направо и иди вверх по реке Воробейке. Будет много притоков. Ты их минуешь, а когда дойдешь до слияния двух одинаковых речушек, ступай вверх по левой, по южной. Там дорога. Ты по ней дойдешь до деревни Сидоровки. Там расспросишь, как дойти до Измайлова-Петрова. На всяк случай я тебе сам расскажу: дорога пойдет по-над Сидоровкой по южной околице и прямо на заход солнца. Пересекает она одну за другой дюжину полян. Верстах в двадцати будет охотничий домик: там всегда есть спички, соль и запас сухих дров. Оттуда Измайлово-Петрово близко — по той дороге, что на юг. А ты сверни на тропу, что прямо на запад, и по ней дойдешь до скита. Живут там староверы. Живут они вдали от мирских треволнений, почитают лишь Господа Бога одного, и никакого им дела нет до советской власти, и та их тоже не трогает. Прохожему, который их о помощи просит во имя Божие, они не откажут. Так направят они тебя от скита к скиту, до самого Омска. И будет до него неполных восемьсот верст. В два, если не в три раза короче путь.
Трудно даже поверить, как это я могла, развесив уши, слушать и верить в существование скитов, не тронутых советской властью?
В оправдание своей глупости могу лишь указать на то, что с того дня, как нас вывезли из Бессарабии, я наталкивалась на столько неправдоподобных фактов, что «мой компас размагнитился» и я перестала доверять своей логике. Грань между вероятным и невероятным стерлась. К тому же легко поверить тому, чему хочется верить! Так и получилось, что, имея в запасе три репы, брюкву и пригоршню сушеной картошки, я предприняла самое рискованное из всех путешествие.
Мертвая деревня
Я бодро шагаю вверх по речке Воробейке. Дорога хорошо видна, но нет на ней ни следа, ни намека на след! И сама-то дорога заросла «частым ельничком-горьким осинничком». Удивительно! Может, люди не пользуются этой дорогой, ведущей по косогору, и проложили другую, более удобную?
На другой день к вечеру я добралась до Сидоровки. Деревня открылась мне внезапно. Ничто не указывало на близость жилья: ни лай собак, ни пенье петухов, ни мычанье коров. Не было ни следов, санных или пеших, ни столь приятного запаха дыма. Могильная тишина! Просто я вышла на поляну — прямо к поскотине — и увидела в долине, окруженной лесом, десятка два домов.
Сердце у меня упало: как будто спешишь на свидание с живым человеком, а застаешь его в гробу.
Солнце садилось. Холмы были окрашены розоватым светом, а в долинах залегли голубые и лиловые тени. Но тщетно, заслонясь ладонью от солнца, я искала розовые столбы дыма над крышами домов.
И на душу упала глубокая черная тень. Ни на одном оконном стекле не отразился отблеск зари. Окна и двери чернели, как глазницы черепа, и, полузанесенные снегом, напоминали лицо трупа, на котором снег не тает. Но я не хотела верить глазам — мне надо было пощупать руками. И я побрела через сугробы вниз в деревню.
Ближний осмотр лишь подтвердил мою догадку: деревня была пуста — жители ее покинули… Почему-то пришла на ум «Семья вурдалака» Алексея Толстого. Но нет! Вурдалаки переселялись в могилы, но не уносили с собой ни окон, ни дверей! Если в этом и замешаны упыри-кровопийцы, то не те, что в могилах. И осиновый кол тут не поможет.
Мне стало жутко при мысли о ночлеге в этом мертвом селении. Но выбирать было не из чего, и я расположилась в одном из пустых домов. И даже развела огонь в разрушенном очаге, благо была целая поленница сухих дров. Холодно мне не было. Однако мороз продирал по шкуре в предчувствии чего-то недоброго.
Казалось бы, все ясно: надо возвращаться, пока не поздно. Нет жизни в деревне — нет ее и в скитах; с брюквой и гоpстью каpтошки по бездоpожью, глухой тайгой немыслимо пройти те 800 верст, о которых говорил дед! И все же утром я шагала на запад — бесконечной цепью полян. Переночевав в охотничьем домике, в котором обещанных соли, спичек и сухих дров и в помине не было, я повернула прямо на запад, по еле заметной и уже почти заросшей просеке.
Чувствовалось приближение весны: днем снег оседал, зато ночью наст был настолько тверд, что выдерживал тяжесть человека, так что я выспалась днем у корней гигантской сосны, против солнышка, а ночью шагала, сверяясь по звездам.