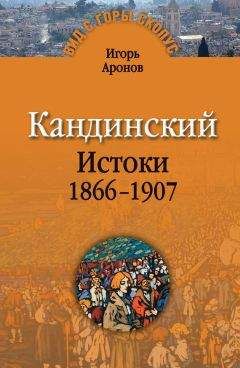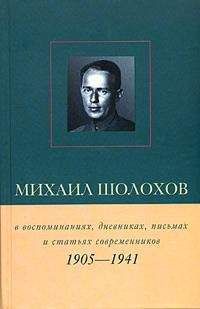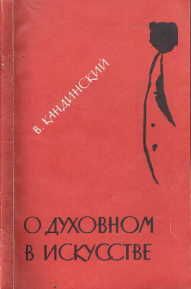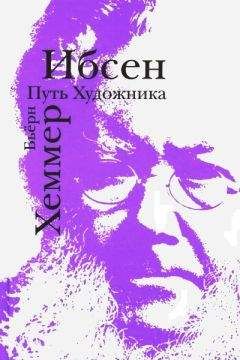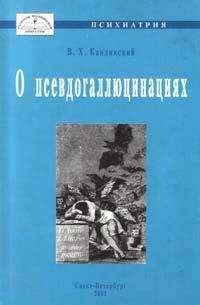Виктор Петелин - Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. Книга 2. 1941–1984 гг.
Вот на чем еще мне хочется акцентировать внимание. Был использован еще один козырь в своего рода шулерской колоде карт. Небывало ранний возраст дебютанта в литературе. Кто, мол, может поверить: первый рассказ, автору 18 лет, два первых тома романа, а автору 23 года… Прошу обратить внимание, запомнить: 23 года. А если по совести вспомнить, надо ли искать объяснение поразительному явлению помимо двух решающих обстоятельств? Требований времени, которое не давало длительных сроков для созревания, для формирования личности, и – что не менее важно – очевидного наличия раннего расцвета личности высокоодаренной. Такое ли это исключение, каким удивительным ни кажется сам факт на первый взгляд. Когда Пушкин написал «Руслана и Людмилу», ему было 20 лет. Еще поразительнее другие сроки. Стихотворение «Вольность» – автору 18 лет, «Послание к Чаадаеву» и стихотворение «Деревня» – 19, «Евгения Онегина» начал писать в 24 года, «Борис Годунов» создан в 26 лет. Николай Михайлович Карамзин осуществляет первый перевод на русский язык шекспировского «Юлия Цезаря», имея от роду 21 год. Жуковский начал печатать свои стихи, когда ему было 15 лет. Бунин перевел «Песнь о Гайавате» Лонгфелло в возрасте 26 лет.
Пока, могут сказать, речь идет о поэзии. Известно, что со стихов и начинают чаще и начинают раньше. Поэтому обратимся и к другим фактам. Салтыков-Щедрин свои первые повести написал в 21 год. Русская литература обогатилась «Вечерами на хуторе близ Диканьки», когда Гоголю было всего 22 года. Появляется рассказ Максима Горького «Макар Чудра» – автору 24. Не достаточно ли было бы вспомнить в этой связи о феноменальном примере Лермонтова? За годы своей такой короткой жизни он создал все, что оставил драгоценным наследием русской литературе и культуре. Отпущено ему было судьбой всего-навсего 27 лет… Не так давно в одном из журналов можно было прочитать замечательные слова о Лермонтове, принадлежащие Анне Ахматовой: «Я уже не говорю о его прозе, здесь он обогнал самого себя на сто лет и в каждой вещи разрушает миф, что проза – достояние лишь зрелого возраста».
Вдобавок еще один, один факт. Даже не факт, а фактик. Почти полузабытый, свидетельствующий об очень ранней и разносторонней одаренности. В Вешенской в давние годы существовал молодежный самодеятельный театрик. Совсем юный Шолохов и лицедействовал в этом театре, и пополнял его репертуар, сочинял пользовавшиеся успехом у станичных зрителей пьески. Бродивший со своей бандой в окрестностях Фомин даже удостаивал эти представления своим присутствием, когда являлась возможность прибыть специально «на Мишку Шолохова». Все это было.
Теперь же попрошу у читателя прощения и уведу его совсем в иную сторону. Не все мне будет ловко рассказывать, кое-где придется прибегнуть к фигуре умолчания. Но попытаюсь сущность передать. А перед тем, как начать, похвастаюсь… На первом томе имеющегося у меня иллюстрированного (роскошно!) «Тихого Дона» есть драгоценная для меня надпись: «Дорогому Юр. Бор. Лукину. Вместе со мною любовно работавшему над этой книгой – с глубоким дружеским чувством. М. Шолохов. 2 VI 36 г.».
Надеюсь, читатель поймет, что это такое для меня.
Немного об истории этого издания… Получаю телеграмму от Михаила Александровича (я тогда работал в издательстве) о том, что один художник без договора с кем-либо, на свой страх и риск, исключительно из любви к произведению, проиллюстрировал все три вышедших к тому времени тома «Тихого Дона»… «Договорились с издательством, чтобы его приняли и посмотрели эти рисунки. Я с ним приеду». Приехали, иллюстрации привезли. Рисунки в буквальном смысле слова поразили издательство. Немедленно был заключен договор. Так появились три тома с этими иллюстрациями. Чуть-чуть было в них натурализма. И это послужило результатом последующего, о чем приходится рассказать. Вот почему четвертая книга, хотя художник к ней рисунки уже представил, не могла быть издана в свое время. По крайней мере, под его фамилией как иллюстратора…
Этот художник жил на Дону. Он сын или племянник одного из братьев Корольковых. В «Тихом Доне» есть упоминание знаменитого на Дону Королевского конного завода… Исключительно удался художнику образ Григория. Аксинья гораздо хуже. Женщины ему далеко не все удавались, я считаю. Но примечательная особенность этих иллюстраций: если вы взглянете на рисунки, где изображен Григорий – в начале и в конце первой книги, вы увидите, как менялся облик человека, однако несомненно согласитесь с тем, что перед вами один и тот же человек. В третьей книге новая встреча Григория с Аксиньей на прежнем месте, у спуска к Дону, вы опять-таки с несомненностью узнаете их обоих, но видите людей, уже переживших очень многое… Надо добавить, что это художник-самоучка. В Новочеркасске он проявил себя и как незаурядный скульптор, целиком отделав в городе парадный зал…
И случилось же так, что в полном удовлетворении от того, как он был принят и признан (Шолохов считал, что эти иллюстрации самые лучшие, а его иллюстрировали и такие мастера, как Фаворский, Верейский, Ребров), чувствуя себя на вершине успеха, художник проиллюстрировал совершенно другое произведение… Этих иллюстраций я не видел, но могу представить себе, что получилось при его реализме, граничащем, как мне все-таки кажется, порою с натурализмом: иллюстрировал он на этот раз небезызвестное произведение, названное по имени и фамилии его героя: «Лука…» (фамилию опускаю). Сделал Корольков не только рисунки, но и много фотокопий, которые не то дарил, не то продавал, короче говоря – за это оказался в тюрьме. Выпустить-то его выпустили. Мне даже рассказывали, будто следователь попросил: ну, дескать, ты мне один-то комплект оставь, подари… А тот отвечает: «Ну да, ты меня потом опять посадишь». Короче говоря, его выпустили… Потом началась война. А женат он был на немке, приволжской. Шолохов меня к ним привел, и я видел эту чету. Жена была художнику как Рембрандту Саския: и любимая женщина, и постоянная натурщица, все вместе. Кончалась война, и немецкую армию погнали из Ростовской области. То ли кровь взыграла, то ли неустойчивое сознание этого самого Сергея Григорьевича Королькова, но они с женой ушли с отступавшими немцами. Ушли и закрыли тем самым дорогу дальнейшим публикациям иллюстраций. Шолохов незадолго до своей кончины сделал попытку обратиться, как у нас говорят, в инстанции: нельзя ли реабилитировать рисунки Королькова к «Тихому Дону»? Ответ был в ту пору отрицательный. Следы Королькова затерялись далеко, за океаном. Это досадно крайне. Надо ли напоминать, к примеру, рисунок в первой книге к первой встрече Григория с Аксиньей и рисунок для третьей книги, когда Григорий, много переживший, говорит, встретив ее на том же месте: «Здравствуй, Аксинья дорогая…» И она отзывается: «Не на этом ли месте любовь наша начиналась?»… Я в своих телевизионных опытах эту иллюстрацию всегда демонстрировал. Она поразительна.