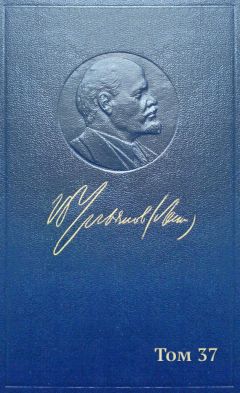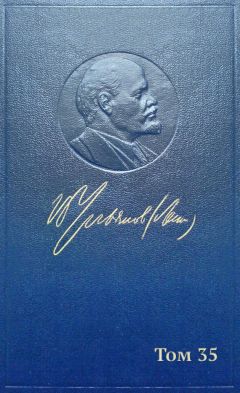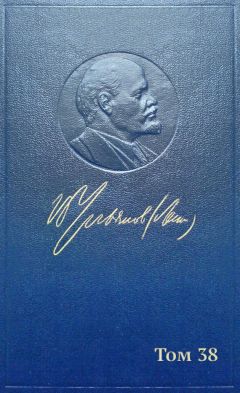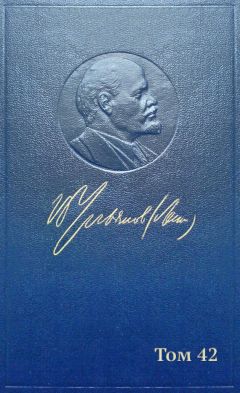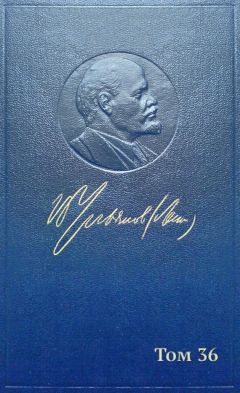Юрий Нагибин - До новой встречи, Аллан!
Но все это было позже, в Сиднее, а в Мельбурне вместо встречи я получил историю о том, как аборигены «вознесли» Аллана Маршала.
«Мы соплеменники» с полным правом назвал Аллан Маршал свою книгу, посвященную аборигенам. Люди с бумерангами всегда считали Маршала своим. И они были искренне огорчены, узнав, что для их друга, умеющего охотиться, ловить рыбу, метать копье, скакать на лошадях, недоступны горы. Он никогда не был в горах. Правда, мальчиком он вскарабкался однажды по заросшему папоротниками склону потухшего вулкана и заполз в кратер, но то не было настоящей высотой. А в Австралии есть очень высокие горы, с вершинами, покрытыми снегом, и земля оттуда видна далеко окрест, даже с самого рослого эвкалипта не охватишь столько пространства. Аборигены решили доставить Маршала на вершину горы. Человек доверчивый, любящий риск и приключения, он ни о чем не спрашивал.
Вышли перед рассветом. Там, где началась крутизна, Аллана усадили на деревянную дощечку, подняли до уровня плеч и велели держаться за шеи носильщиков. У подножия горы ночь, уже утратившая плотность, была непроглядно-черна. «Держись!» — сказали невидимые носильщики Маршалу и прянули из тьмы во тьму.
Они продвигались быстро, почти бегом, и Маршалу подумалось, что они не рассчитали сил. Но шагов через пятьсот-шестьсот один из носильщиков коротко свистнул, ему тут же отозвались; от ночи отделились два сгустка тьмы, приняли ношу и, не задерживаясь, устремились вперед и вверх. Так подымались они без остановок: свист подстава, пробежка, хриплое дыхание — Маршал тщетно пытался угадать, кто его несет. Прореживалась тьма, светлело небо в близости восхода, вскоре Маршал стал различать лица своих носильщиков. Многих из них он не знал, но это и неважно, коль все они были его соплеменниками. Затем ему заложило уши — новое, незнакомое ощущение от разреженного воздуха.
Круче и круче становился подъем, чаще и чаще подмены — скорость не утрачивалась, молчаливые, коренастые, надежные люди все учли. Свист, толчок, пробежка, свист, толчок, пробежка… И вот раздался какой-то особый свист — долгий, ликующий, и не последовало очередного толчка. Носильщики стояли, тяжело дыша, от них тянуло мускусом пота. Над головой, мерцая, серебрился небесный свод в гаснущих одна за другой звездах. Светлая полоса на востоке заблистала, вот-вот из-за окоема появится солнце. В опрозрачневшем сумраке обрисовывались, обретая краски, становясь плотной материей и самими собой, гряды гор, холмы, леса, купы деревьев, реки, и задрожавшим сердцем постиг Аллан Маршал земное пространство.
Вот какой подарок сделали соплеменники своему писателю, вот как они понимали дружбу…
* * *Наше ви′дение во многом зависит от предваряющих впечатлений. В свое время, настроенный на встречу с охотничьим богом, богатырем, пропахшим лесом и осокой, я не разглядел в поставе Аллана даже тех признаков силы, которые воспитываются хождением на костылях. Но, встретив в его книгах многократные упоминания о диспропорции между его грудной клеткой, широкими плечами и «нижним этажом», я постиг ложность своего первовидения, и теперь даже инвалидная коляска не помешала мне узреть могучего Аллана. Ему за семьдесят, но крепок он, как топор, свеж гладким розовым лицом и загорелой лысиной, которая очень ему идет; у него седые, впроголубь волосы на висках и затылке и седые, припаленные желтым усы, хорошо обрамляющие крепкий рот. Одет Маршал франтовато: стального цвета рубашка, красный в горошек шейный платок, светлые брюки и коричневая замшевая туфля. И вообще Аллан Маршал красивый мужчина, и легко понять, что домашнее гнездо не устояло под напором неистовых гарпий.
Ампутация еще более сузила для него постижимое пространство, но подвижный, как ртуть, Маршал отказывается принять насильственный покой. То и дело, упираясь в подлокотники, он перемахивает из коляски в кресло или на диван, оттуда обратно в коляску, толкает колеса и вдруг оказывается в противоположном конце комнаты. И вовсе не от болезненной перевозбужденности, он спокойный человек, а для дела: чтобы удобнее было разговаривать, легче достать нужную книгу, газету, подать гостю прохладительное, сигареты, огня. Он сроду не любил прибегать к посторонней помощи, и сейчас верен своим привычкам. Презирая новую каверзу судьбы, он планирует поездку в Европу, и в первую очередь в Советский Союз. Я ведь не сказал, что Аллан Маршал — бессменный председатель Общества австралийско-советской дружбы, громадной организации с отделениями во всех крупных городах Австралии.
Активность Аллана вызывала некоторое раздражение у его племянника, осуществляющего при нем роль «дядьки». Этот юный Савельич, преданный и ворчливый, как и все Савельичи на свете, несколько преувеличивает свою обремененность причудами старого дяди, втайне гордясь его неуемным темпераментом. Он покрикивает и только что не щелкает бичом, словно перед ним не инвалид в коляске, а бенгальский тигр или дикий конь. Аллан относится к ого выходкам с той же спокойной, благожелательной иронией, как и к окрикам Гепсибы (Дженнифер) в ЦДЛ и ко всем малым нелепицам жизни. Мне племянник неожиданно понравился. Наконец-то я увидел воочию австралийца, полностью соответствующего типу бродяги-стригаля из чудесных рассказов Лоусона: большой, загорелый, светловолосый, горластый, ворчливый, с размашистыми жестами, добродушный, но достаточно твердый, чтобы оградить свою внутреннюю суть от любых посягательств и, добавлю, надежно сберечь то, что ему доверено.
Мы с Алланом обрадовались друг другу, но в небольшую квартиру набилось слишком много народа, и это не располагало к углубленной, сосредоточенной беседе. Когда же мы наконец уединились, весьма относительно — поминутно кто-то заходил, — я вдруг понял, что сказать надо слишком много, и этого все равно не скажешь, даже не будь мы ограничены во времени. Но я не особенно огорчился, ибо сделал открытие: когда людям хорошо друг с другом, то нет нужды сыпать словами, можно помолчать; оказывается, молчание тоже форма общения, едва ли не самая полная. Как хорошо молчалось нам с Алланом Маршалом! Мы молчали о литературе, о нашей работе, о работе других писателей, молчали о предстоящих выборах — почему-то я сразу понял, что в отличие от своих друзей и соратников Маршал убежден в победе лейбористов, так оно впоследствии и оказалось, — молчали о настоящем, прошлом и будущем, о женщинах, которых любили, о надеждах, с которыми еще не расстались. Я многое понял из этого молчания и стал тверже.
Но не бывает так в жизни, чтобы люди вкусили благость тишины и молча разошлись. Совершенная чистота приема возможна только в литературе, а не в сутолоке быта. И мы против воли оказались втянутыми в разговор.