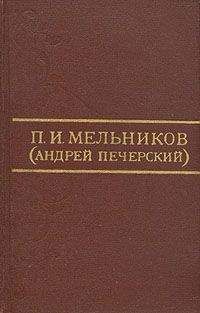Павел Мельников-Печерский - Очерк жизни и творчества
Образы этого рассказа, как произведения большого скульптора, «хорошо смотрятся» с самых различных точек зрения. Это ведь Корнила Егорыч соорудил «залу» и стал «добровольным заточенником в золотой тюрьме своей»; и что рядом с «изысканными» гелиотропами поставлен стручковый перец — во всем этом — он, Корнила Егорыч, его «вкус», его характер. Тут чисто гоголевское умение видеть в вещах и предметах «душу» их владельца. Но в чем душа старшего Красильникова как бы настежь распахивается перед нами, так это в его речи. Пословицы, поговорки, старинные слова и обороты — все это Мельников, конечно, тщательно отобрал. Но эта предварительная работа почти совсем не чувствуется. Речь Корнилы Егорыча звучит как совершенно свободная и непринужденная импровизация.
Ученик Пушкина и Гоголя, Мельников овладел здесь и секретом лаконичности. Даже второстепенные фигуры в его рассказе рельефны и впечатляющи. Рисуя отношения своих героев, он достигает почти драматической выразительности. Вот, например, младший из Красильниковых — Сережа. О нем сказано немного, но каждый штрих бьет в цель: «Низко поклонясь, смиренно остановился он у притолоки, глядя исподлобья на родителя…» Что это — стеснительность, богобоязненность? «Молод, дурь еще в голове ходит… Все бы еще рядиться да на рысаках… Летось женил…» Так говорит о нем отец — при посторонних людях! А вот как он с ним разговаривает:
«— Слышишь?.. Чего стал?.. Пошел, дожидайся!
— Слышу, тятенька!
— Ступай же!.. На крыльце дожидайся…»
Понятно, почему Сережа исподлобья-то смотрел! Легко себе представить, каков он бывает, вырвавшись из-под тяжкой ферулы родителя, — «на рысаках» или где-нибудь в трактире. Должно быть, Сережа очень желает своему отцу доброго здравия и многих лет жизни…
Успех «Красильниковых» открывал перед Мельниковым широкую дорогу в литературу. Будучи весной 1852 года в Петербурге, Мельников убедился в этом. «Красильниковых» читают нарасхват, — сообщил он в одном из своих тогдашних писем. — Панаев задал мне обед; вместо 50 р. за лист, которые дает Погодин, предлагает 75 рублей серебром за лист» Казалось бы, теперь он мог писать и писать. Но в его литературной работе наступил еще один, почти пятилетний перерыв. Почему же он не воспользовался обстоятельствами, как будто бы так счастливо сложившимися для него?
В только что цитированном письме есть фраза, содержащая исчерпывающий ответ на этот вопрос. Рассказав о будущих гонорарах, Мельников написал следующее: «Если не запретят писать, надобно будет воспользоваться этим выгодным предложением». Если не запретят писать… В николаевские времена такого рода запреты не были редкостью. Лютая ненависть царя и его прислужников к литературе была общеизвестной. «История нашей литературы, — писал Герцен в 1850 году, — это или мартиролог, или реестр каторги».[10]
Когда Мельников писал горькие слова о возможном запрете, у всех еще была в памяти буря, разразившаяся над А. Н. Островским после напечатания пьесы «Своя люди — сочтемся»: попечитель московского учебного округа «вразумлял» великого драматурга, а полиция следила за каждым его шагом — по прямому приказу царя. Как раз в 1852 году Тургенев после выхода в свет его «Записок охотника» был посажен на съезжую, а потом сослан в деревню.
«Красильниковы» произвели большое впечатление не только на читателей, но и на тех, «кому ведать надлежало». «Быть может, до вас дойдут слухи о том, что я арестован, — предупреждал Мельников своего адресата в том же письме. — Повесть «Красильниковы» имела сильный успех, но цензура, говорят, возопияла и послала в Москву узнать, кто такой «Печерский»… Если это справедливо, без неприятностей не обойдется: здесь то и дело литераторы на гауптвахте сидят. Авось и пройдет!».[11]
Но авось не выручил: ведь Мельников был чиновник — лицо перед высшим начальством сугубо подневольное.
Почему же власть имущие так всполошились?
Тема рассказа как будто бы чисто бытовая. Но разрешалась она на таком жизненном материале — быт купечества, который в то время сам по себе был политически актуален. Гоголь бросил на купца презрительно-насмешливый взор. Но его купцы еще старозаветной породы. Они еще и сами не перестали считать себя холопами; даже с начальством средней руки они были почтительны и уступчивы и осмеливались только разве жаловаться, да и то лишь в крайних случаях. Русский купец и промышленник середины XIX столетия был уже не таков. Вышедший из числа оборотистых мужиков или плутоватых и услужливых приказчиков, он все смелее и напористее претендовал на положение нового хозяина жизни. И самодержавие сочувственно относилось к этим претензиям. К такому купцу русские писатели тогда только еще начинали присматриваться. Самсон Силыч Большов стоял в тогдашней литературе почти в полном одиночестве.
Корнила Егорыч — человек того же разбора, что и Большов. Но в мельниковском герое перед нами новое качество: он, если можно так про него сказать, мыслит более крупными категориями, он «политик». Говоря о бестолковости чиновничьей статистики, Корнила Егорыч в то же время имеет в виду всю государственную экономию; он толкует не просто о нравах и стремлениях купеческой молодежи самих по себе, а о смысле и пользе просвещения вообще. И все это самоуверенно, ни на минуту не сомневаясь в собственном превосходстве над собеседником.
На первый взгляд может показаться, что Мельников в чем-то разделяет мнения старшего Красильникова и даже чуть ли не сочувствует ему. В речах Корнилы Егорыча о несуразице казенных умозаключений есть явный резон. Но ведь чиновники и на самом деле действуют так бессмысленно и нелепо, что не надо было большого ума, чтобы заметить это. Рассказчику эти речи, по-видимому, нравятся; но Печерского ни в коем случае нельзя отождествлять с самим Мельниковым: первый слушает Красильникова, разиня рот, и не перестает удивляться его мудрости, а второй просто дал купчине покуражиться и вместе с тем его устами высказал свое мнение о той машине, которую теперь знал досконально. За «критиканством» Корнилы Егорыча явно чувствуется полное его равнодушие и к интересам государства и к народной участи. «Лежит себе на печи да бражку потягивает», — говорит он о мужике, нисколько не смущаясь этой явной ложью.
С полной заинтересованностью он требует только одного: чтобы наживе не препятствовали, чтобы его «сноровке» дали полную волю. А все его «разумные» речи, как и мелкоштучный паркет, как и незажигаемые дорогие лампы в «зале», — только для вида. Он как будто бы с завистью говорит об иностранных кожевенных промышленниках, вполне резонно объясняет небрежную работу русских мастеров поштучной платой, посмеивается над русскими купцами, рассчитывающими «на авось, небось да как-нибудь», — и все это ради красного словца. Сам-то он платит рабочим поштучно и понуждает их старание и радивость толстой суковатой палкой: его алчность не знает пощады. Да что рабочие! Безмерной жадностью к деньгам погубил он и своего талантливого сына Дмитрия. Корнила Егорыч — опять-таки только ради красного словца — уверяет, будто приданое он не ценит; на самом-то деле он не может скрыть своей досады, что Дмитрий не захотел жениться на дочке какого-нибудь мильонщика. Потому-то так и ненавистно Корниле Егорычу просвещение, что оно неразлучно с человечностью, что по самой своей сущности оно враждебно религии барыша.