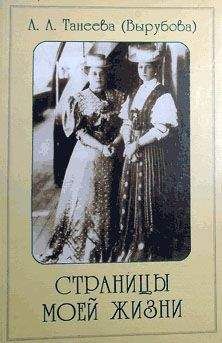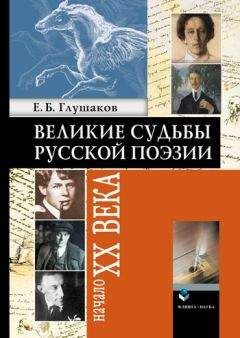Сати Спивакова - Не всё
Первый концерт, который «Виртуозы Москвы» давали в Мадриде после приезда в Испанию, сопровождался каким-то «кровавым» собранием, где полился поток оскорблений в адрес моего мужа. Второй скрипач Борис Куньев, бывший всегда человеком желчным, завистливым, злобным — и при этом высоким профессионалом, рвавшимся в концертмейстеры, вдруг раскрылся во всей красе. Прямо перед презентацией оркестра он написал Володе письмо и подсунул под дверь: «Оглянись, с 80-го года прошло десять лет — посмотри, где мы и где ты? Ты ходишь чуть ли не под руку с королем, тебя наградили всеми регалиями и званиями, твое имя на всех афишах крупными буквами, во всех интервью — твои портреты. Мы тебя подняли на небеса. Ты стоишь на костях своих товарищей, труд которых ты эксплуатируешь». Спиваков после этого вышел играть концерт Моцарта, и я чувствовала, как у него от ярости дрожит смычок. Мне сразу вспомнились детство и мой отец, которому тоже говорили: «Ты существуешь только благодаря тому, что есть мы, музыканты, поднявшие тебя до небес». Папа тогда ответил: «Вот и оставайтесь на небесах, а я сойду на землю». Положил палочку и ушел. И спустя годы Володе бросали обвинение: ты на пьедестале только благодаря нам. Например, кто-то был недоволен, что на афише американских гастролей «Виртуозов Москвы» — портрет одного Спивакова. На что импресарио ответил, что продать он может только Спивакова, а оркестр без Спивакова — нет.
В Москве мы привыкли чувствовать себя в эпицентре событий. На вопрос, зачем мы уезжаем, Володя отвечал, что ему надо сохранить оркестр и полученный в Испании контракт — небывалая удача. Оркестр выезжает под патронаж Королевского дома Испании. Поэтому в Москве выливалось такое количество кипятка от зависти… Я помню наш приезд в Испанию: несколько автобусов со всеми членами семей оркестрантов, чадами и домочадцами. Астурия — маленькая провинция, оживающая на три дня в году, когда в столице — городе Овьедо вручается знаменитая на всю Испанию премия принца Астурийского. Остальные 362 дня там тихо, пусто и скучно. И все чужое. Когда мы приехали, нас ждал банкет с множеством детей испанской войны, которых в свое время приютил СССР. И профессор университета, говорящий по-русски, произнес тост со слезами на глазах: «Сегодня великий для меня день, потому что в 30-е годы Россия приютила нас, несчастных детей, бежавших от войны. Теперь мы отдаем ей долг, принимая гонимых музыкантов». Я почувствовала, что нас считают беженцами и политическими эмигрантами.
Мы уехали из своей маленькой, уютной, чудной квартиры на улице Неждановой и попали в городок Хихон, где надо было найти и снять казенную квартиру с чужой мебелью, чужими запахами. Я не понимала, во имя чего я приношу эту жертву. Каждое утро я выходила в красивый сад у нашего дома и мне казалось, что я — в чужом сне, который снится кому-то другому. Красивый, тихий, сытный кошмар с чистым воздухом. Северная Испания — это дикая сырость, в Хихоне сырело все — сумки и ботинки покрывались пятнами, простыни оставались постоянно волглыми. «Виртуозы» продолжали концертировать, а семьи поселились в двух городках на виду друг у друга. Я быстро выучила испанский язык. В Мадриде появилось несколько друзей. В Хихоне и Овьедо меня приглашали на какие-то женские чаепития, где я не понимала, о чем говорить с этими женщинами, смотрящими на меня с неким любопытством, как на диковинную птицу. Когда в России случился путч, но через два дня все обошлось и «слухи о нашей смерти оказались резко преувеличены», устроили концерт в поддержку демократической России. Приехали принц Астурийский Филипп и его сестра принцесса Елена. Испанские дамочки, заглядывая мне в лицо, спрашивали: «Ты счастлива?» А мне не было от чего испытывать счастье при исполнении коронационной мессы с не самым лучшим хором. Я понимала, что мой муж принес очередную жертву, сделал сальто-мортале и вывез из России целый самолет людей лишь ради того, чтобы не разлучать оркестр. Но все обернулось иначе.
Пожалуй, последним счастливым аккордом был 1000-й концерт «Виртуозов Москвы» в Большом зале Консерватории, когда все забавлялись и музицировали с удовольствием. Редкими островками единения и счастья были поездки в Россию. А работа в Астурии, когда я видела, как все рыщут в поисках вакансий в других оркестрах, разрушила все иллюзии. Я понимала, что музыканты воспринимают отъезд как трамплин к другой жизни, и только Спиваков продолжал верить в существование идеальной модели коллектива единомышленников.
Многие музыканты стали по одному уходить в испанские оркестры, где предлагались совершенно другие зарплаты. Каждого ушедшего нужно было заменять, вводить в репертуар новых музыкантов, от этого терялось качество, в чем тоже упрекали Спивакова. Работать без Спивакова, самостоятельно, новые люди не умели, они мгновенно забывали наработанное, и мой муж как творческая личность стал буксовать. Я увидела — он загибается!
В Испании дело не пошло еще и потому, что преданный коллективу и очень умный директор оркестра Роберт Бушков не мог спокойно пережить, что, когда в России начались финансовые и экономические преобразования, он остается в стороне. Он отличался недюжинным умом, его считали финансовым гением. И он страшно нервничал, считая, что пора зарабатывать деньги. В голове его что-то сместилось, и, вместо того чтобы зарабатывать для оркестра, он старался заработать для себя. Он вкладывал деньги в ларьки с цветами, в золотые прииски, появлялись статьи, что «Виртуозы Москвы» намывают золото. Концов найти было нельзя. Конфликт между директором и художественным руководителем разрастался, директор постоянно отсутствовал, сидя в Москве, денег не прибавлялось, и оркестр совершенно растерялся. Музыканты привыкли быть при Бушкове, человеке властном, как дети при строгом папеньке. Все распадалось, созданное годами здание на глазах стало рассыпаться — пропал общий интерес. Исчезло то единение, о котором Андрей Вознесенский написал: «Созвездье виртуозов». Все звезды стали падать с этого небосвода.
И я увидела, что и мой муж растерялся. Он поверил, что без «Виртуозов» он — ничто. Ему стало казаться, что, если он выйдет на сцену и за спиной будут сидеть другие музыканты, он не сможет ничего сделать. Это для меня было самым страшным. На это наслоился и кризис нашей семейной жизни. Мы были на виду, и все доброжелатели с увлечением обсуждали подробности и, потирая руки, ожидали развязки. Наш разлад обрастал сплетнями в духе мексиканских сериалов. (Для меня было большим ударом узнать, что ближайший друг моего отца, с которым папа спал на соседних койках в общежитии консерватории, Эрик Назаренко, работавший в оркестре благодаря мне, в какой-то поездке подошел к Володе и сказал: «Ты правильно делаешь. Это страшная семья». Всю жизнь он был для меня «дядей Эриком», учил меня фотографировать, знал меня с колыбели. Когда Володя хотел уволить его — он называл глуховатого Эрика «гнездом глухаря», — я умоляла памятью моего отца оставить его в оркестре.) Вдруг я увидела, что муж мой, как сталкер, находится в какой-то своей зоне, не слышит, не видит, не понимает, обрастает панцирем цинизма и черствости от неуверенности в себе, от зажима и несчастливости. Володя человек очень гармоничный, и даже когда он собой недоволен, он должен быть внутренне уверенным в правоте того, что он делает. А тут я понимала, что ощущение счастья оставило его. Он перестал получать отдачу во время общения с оркестром на сцене. Я поняла, что он больше не видит лиц музыкантов и, выходя на сцену, не может найти с ними контакта. Получилось как в финале Прощальной симфонии Гайдна, который он позволил себе придумать. В оригинале ведь, когда все музыканты уже ушли и осталось только двое оркестрантов, дирижер не играет. А ему хотелось самому доиграть эти последние ноты. Это стало чем-то провидческим: он оставался один, доигрывал последнюю ноту в гордом одиночестве, и свет гас.