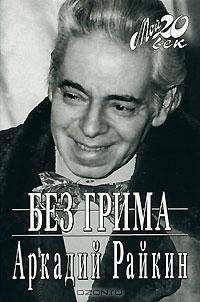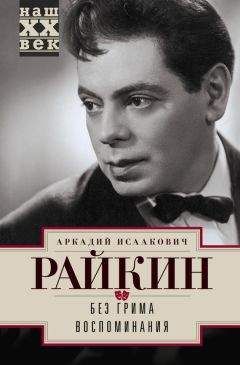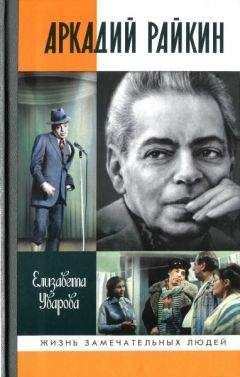Аркадий Райкин - Воспоминания
Дело в том, что в 1939 году, когда я стал лауреатом Первого Всесоюзного конкурса артистов эстрады, нам с женой горисполком йыделил большую комнату в коммунальной квартире — сорок восемь квадратных метров. По тем временам, по тогдашним понятиям, это было прекрасное жилье. Отец полюбил приходить к нам в гости и все дивился тому, что артистам дают такие «апартаменты». Выходило, что и на этом сомнительном поприще можно добиться чего-то стоящего. Правда, вслух он так и не признался в своем «поражении», но всем своим видом давал понять, что доволен или, по крайней мере, спокоен теперь за меня.
Но этому предшествовала просто-таки яростная непримиримость его к моим мечтам.
Когда после вечерних репетиций в театральной самодеятельности или после посещения какого-нибудь театра (во второй половине двадцатых годов я чуть ли не каждый вечер ходил в театр, пересмотрел весь ленинградский репертуар) я возвращался домой близко к полуночи, отец не ложился спать, все караулил меня. Что он только не пробовал, уяснив, что все уговоры забыть о сцене действия не возымеют! И в квартиру подолгу не пускал, заставляя томиться у дверей «хоть всю ночь», и даже за ремень хватался.
Несмотря на то, что мама всегда была готова меня пожалеть и понять (она тоже поначалу не одобряла мою страсть к театру, не понимала, боялась ее, но все же признала меня как артиста гораздо раньше, чем отец, и даже иногда растроганно плакала, видя меня на сцене) мне в конце концов пришлось решиться на бегство из родительского дома. Это, впрочем, был поступок, достойный сына своего отца: сворачивать с избранного пути было не в наших правилах.
Путешествие на лесопилку
Во время первой мировой войны, когда к городу вплотную приблизились немцы, мои родители, забрав меня и двух младших сестер — Беллу и Софью,— покинули Ригу.
Решено было перебраться на Волгу, в Рыбинск. Почему именно в Рыбинск, затрудняюсь сказать. Вероятнее всего, выбор нового местожительства был продиктован деловыми расчетами отца, его лесоторговыми связями. Так или иначе, в самом Рыбинске ему не удалось поступить на службу; работу он нашел только за чертой города, на лесопильном производстве.
Как-то раз он взял меня туда. Это было целое путешествие: полтора часа поездом. Собственно, весь поезд состоял из одного-единственного вагона, прицепленного к паровозику —«кукушке». Паровозик шел бойко, старательно пыхтел и время от времени вопил для порядка. И от этого — невесть почему — на душе становилось весело и легко.
На лесопилке я увидел, как рабочие — загорелые, сильные, пышущие здоровьем,— уверенно и ловко орудуя крючьями, баграми и еще какими-то приспособлениями, обрабатывают поваленные деревья и подталкивают очищенные от сучьев стволы к грохочущему конвейеру. Конвейер был соединен с механическими пилами, доставлял к ним стволы, и в результате неуловимым, скрытым от наблюдателя способом неказистые толстенные бревна превращались в гладкие, аккуратные доски. Наблюдать за этим процессом было большим удовольствием, дававшим простор воображению.
Возникало чувство, что весь этот механизм точно живой. Что он заглатывает бревна и выплевывает доски сам по себе, в какой-то момент как бы отделяясь от людей.
В чем тут заключались функции отца, не могу припомнить. Помню только, что он давал какие-то советы и распоряжения, и голос его тонул в адском лязге и скрежете. Но там все понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда, с полужеста, и отец не выглядел лишним, а даже напротив — очень значительным лицом. Его деловитость, сосредоточенность, увлеченность не оставляли на этот счет никаких сомнений, и хотя он стоял поодаль от ковейера, наблюдать за ним, столь непохожим на «домашнего» отца, тоже было очень интересно.
Помню еще, как удивительно пахло вокруг: опилками, смолою, летним лесным дождем, нахлынувшим и отхлынувшим внезапно, будто специально для того, чтобы придать свежесть разгоряченным работой людям.
Дома я поспешил поделиться впечатлениями со своими сестрами. Мне тогда было семь лет, а им и того меньше: Софье — пять, а Белле — три. Конечно, я не сумел описать увиденное так, чтобы передать им мой восторг. Мне не хватало слов, да если бы и хватило, они еще не были способны проникнуться тем, чем так загорелся я.
С тех пор я не раз испытывал чувство невысказанности. И, разумеется, по более серьезным поводам. Но в детстве это чувство не менее, а может, и более досадно, чем в зрелости. В зрелости хотя бы понимаешь его природу, его неизбежность. И можешь даже ободрить себя тем, что если сегодня не получается передать другим всю полноту своего внутренного волнения, своих переживаний, то это удастся тебе в будущем. В детстве же просто невыносимо оставаться один на один с каким-нибудь поразившим тебя открытием: тебе нужно незамедлительно приобщить к нему других. И лучше, чтобы это были не взрослые, в которых ты предполагаешь разрушителей всяческих открытий и тайн, лучше, чтобы это были те, кто младше тебя, те, кого твой жизненный опыт может по-настоящему удивить.
В общем, я решил показать сестрам лесопилку. Руководила мной поистине детская логика. С одной стороны, я счел опасным посвящать в свой замысел родителей. С другой стороны, почему-то был уверен, что когда отец увидит нас втроем у себя на работе, то непременно обрадуется.
Улучив момент, мы с сестрами улизнули из дома; отправились на вокзал, где беспрепятственно проникли в тот самый вагон, прицепленный к «кукушке». Без всяких приключений доехали мы до нужной станции. Там надо было отыскать место, где работал отец. Мы и это проделали благополучно: никто, как ни странно, не остановил нас, не поинтересовался, что мы тут делаем одни, без взрослых.
Не выразил удивления в связи с появлением столь подозрительной компании и сторож лесопилки. Он лишь спокойно сообщил нам, что Райкина надо искать совсем на другом участке: раньше, мол, Райкин здесь работал, а теперь почти не бывает. Сторож тем не менее допустил нас к конвейеру, предупредив, чтобы слишком близко мы не подходили, а то — не ровен час — распилит пополам.
Лесопильный конвейер действовал, как и раньше. Но прежнего удовольствия уже не было. Напротив, с каждым мгновением росла моя тревога: я вдруг со всей отчетливостью почувствовал неизбежность наказания за свое самовольство. К тому же сестренки устали, проголодались, конвейер им совсем не понравился. И услышав, что он может нас распилить, они заревели от страха.
Как я их ни успокаивал, они продолжали реветь в течение всего обратного пути от лесопилки до станции. Младшую я нес на руках, а старшая плелась рядом. Когда мы, наконец, добрались до железной дороги, уже смеркалось. Но тут-то меня подстерегала еще одна неожиданность: последний поезд на Рыбинск уже ушел. Уехать можно было только на следующее утро.