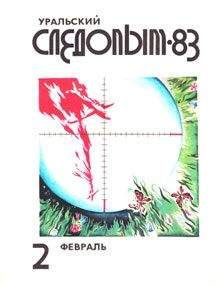Лев Копелев - Хранить вечно. Книга вторая
- А ну, заткнись… твою мать… Сейчас же заткнись. Я тебе покажу законы, падло, не доживешь до больницы.
Начальственный тенор приближался от вахты.
- Кто там права качает? Кто оскорбляет конвой? В больницу собрался и на горло берет. Так мы тут на месте подлечить можем… Этот? Здоровый лоб, а намотал бинтов. Это ты начальника зовешь?
Молчу, стараюсь удержать дрожь озноба и страха. Сразу же испугался, ужаснуло, что оставят, изобьют, погонят назад в бараки и не попаду в больницу, благодатную, светлую, полную добрых врачей.
- Молчишь, сука? У, враг народа. Вот так и молчи. Рога еще не обломали. А ты заметь эту морду забинтованную. Глаз не спускай.
И я мгновенно, сквозь боли, сквозь жар вспомнил рассказы о конвоирах, которые в пути заставляли зэков часами лежать в снегу, разуваться на морозе, сами сталкивали с дороги и стреляли в упор - «попытка к бегству».
Меня вовсе не обыскивали, сразу видно было, что взять нечего, у стоявшего рядом только ощупали тощий мешок.
Тот же хрипловатый тенорок завел обычное:
- Шаг вправо, шаг влево… Всем взяться за руки, крепко. Не отставать.
Вышли за зону. Впереди и сзади - конвоиры с большими яркими фонарями. Теперь конвой спешил: «Давай шире шаг, поезд ждать не будет». Собаки лаяли, должно быть, из-за спешки.
Под ногами клочья снега, жидкая, скользкая, вязкая грязь, лужи в колеях и выбоинах. Набрал в калоши: чувствую холодную мокреть бахил. Пытаюсь смотреть под ноги, но это бесполезно. Справа и слева на локтях висят сопящие, кряхтящие, постанывающие. Идем сцепившись. Сзади подталкивают:
- Давай, давай… не растягивайся… вашу мать.
В темноте, разжиженной фонарями, в задыхающейся, спотыкающейся спешке не понять, много ли прошли. Впереди кто-то споткнулся, упал. Толчея… Крикливая брань конвоиров. Они возненавидели ограбленных ими арестантов. Начальник кричит:
- Кто будет мешать движению… конвой применяет оружие. Беспощадно. Не растягивайся, не сторонись. Шагай прямо! Не сахарные, мать вашу…
Идем прямо по лужам. Внезапно вступаю в глубокую, липкую, тягуче жидкую грязь. Спотыкаюсь. Почти падаю на одно колено. Рывком выпрямляюсь. С двух сторон тянут, сзади напирают. Чувствую, калоша осталась в грязи. Пытаюсь нагнуться.
- Минутку, товарищи, там калоша… у меня жар…
Но со стороны, почти рядом, тот же голос, что у вахты - оскаленного белозубого.
- Кто там ложится? Опять ты, падло! Законы шукаешь?
Клацанье затвора. Панические рывки сцепленных со мной. Хотят оторваться, чтоб не задела пуля?… Ужас - немой, холодный!… Выстрелит? Убьет?… Сколько прошло - секунда, полсекунды?… Орет: «Шире шаг!» Не стреляет. Злой матерный крик звучит благостной надеждой. Кажется, будто даже потеплело. На шее, на спине, на животе - струйками теплый пот. Рвусь вперед. Зажимаю локти идущих рядом. Ноги все равно намокли.
- Шире шаг!
…Вышли на открытое место. Цепочка фонарей расплывается оранжевыми пятнами в серо-белесой, тускло поблескивающей мути дождя и снега. Идем по откосу. Поезд. Несколько теплушек. Оттуда крики:
- Давай, давай, скорее!
Сбиваемся в кучу у едва приоткрытой двери теплушки. Конвоиры орут, собаки рычат. Помогаю забраться стонущему старику. Потом женщине. Свистит паровоз. Меня отталкивает кто-то панически-торопливый, стонущий, он с трудом взбирается, дрыгая ногами. Я хватаюсь за железный паз, по которому движется дверь. Пытаюсь подтянуться. Уперся локтем, а ноги бессильно болтаются. Сзади хохочут конвоиры. У самых глаз - грязные подошвы. Над ними красноватая теплая полутьма. Вагон вздрагивает. - У меня нет сил. - Ужас. - Поезд тронется - свалюсь под колеса… Или останусь один - пристрелят. Кажется, закричал или застонал: помогите! Кто-то сверху рванул за шиворот. Бушлат поддается, а я вишу. Сзади, снизу толкнули больно, грубо, но спасительно - взобрался, вполз. Ползу по грязным мокрым доскам. Сердце колотится у глотки. Все тело обдает влагой, то жаркой, то холодной.
Но поезд стоял… Кажется, еще долго стоял. Поездные конвоиры пересчитывали нас. В теплушке сидели на мешках, узлах, ящиках и лежали вповалку арестанты. Посередине - печка из железной бочки, мутно-красный свет от раскаленных дверец. Пытаюсь подобраться ближе к печке. Ругают, отпихивают. Униженно прошу: «У меня жар, потерял калошу. Дайте посушить бахилы». Разуваюсь, пол сырой, холодный, вытаскиваю из мешка все тряпье. Кто-то добрый дарит большие куски оберточной бумаги. Из угла вагона передали горсть соломы, дотискиваюсь к каким-то мешкам или тюкам. Не вижу лиц, не запомнил. Кто-то протянул кружку с кипятком. Пахнет рыбными консервами. Печка благостно обжигает, греет. Голоса вокруг, как сквозь толстую вату. А на мне и правда вата - на скуле, на лбу, на шее, в ушах.
Наконец толчок, застучали колеса - мгновение счастья сильнее всех болей: едем в больницу… Едва помню, как выгружали. Ночью из теплушки в темноту, глубоко вниз, как в пропасть. Но уже не страшно, видны огни больницы. Там всех завели в баню. Мы спали в тесном предбаннике на деревянном полу - чистом, теплом, у ласковой горячей стены.
Утром всех повели по корпусам. Меня вел высокий, длиннолицый, смуглый санитар. Он говорил с незнакомым акцентом. И вдруг запел в четверть голоса «под нос»: «Alles was aus Hamburg kommt muss gestemplet sein…» Старый шлягер 20-х годов. Иоганн, австриец из Семиградья, был комсомольцем, в 1940 г. убежал в Бессарабию навстречу Красной Армии, осужден ОСО по «подозрению в шпионаже» на пять лет. Срок отбыл, но «пересиживал». Он вел меня по деревянным мосткам, по свежему хрусткому снегу, я шатался, оступался, он подхватывал сзади под мышки длинными сильными руками.
Ларинголог дядя Боря, маленький, круглолицый, с седыми усиками, осмотрел очень внимательно. Я передал ему привет от доктора Нины. Он кивнул, улыбнулся, стал расспрашивать: кто, откуда.
- А вы в Москве такого критика Мотылеву знали?
- Тамару Лазаревну? Конечно!
- Это моя племянница.
Дядя Боря был осужден за двойное «преступление», - за филателию и за «разглашение клеветы на органы».
В двадцатые годы он ездил на международные конгрессы филателистов. В 1937 году он получил приглашение на очередной конгресс, работал тогда врачом в Ярославле. Посоветовался с начальством, как поступить. Его арестовали. Следователи жестоко избивали старика, не понимавшего, что он должен признаваться в том, чего не делал и не думал. Ему сломали два ребра, палец, вырвали ноготь…
Однако смена слоев аппарата НКВД замедлила следствие, а в 1939 г. после отставки Ежова «новая метла» вымела дядю Борю на свободу; он поверил, что все, произошедшее с ним, было чудовищным недоразумением. Но год спустя его арестовали опять, уже за то, что он рассказывал лечившим его коллегам, как именно были поломаны ребра и палец. Без особых новых допросов - обошлось несколькими затрещинами - его осудило ОСО на 8 лет, причем великодушно засчитали срок первого следствия. Дядя Боря и в лагере продолжал собирать марки, но уже только советские и старые российские.