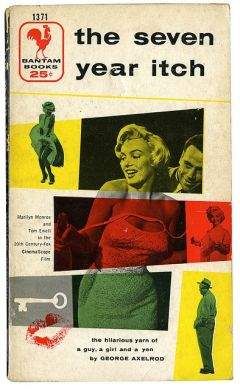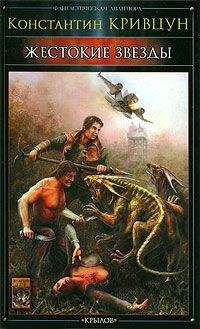Вехова Базильевна - Бумажные маки: Повесть о детстве
В январе 1942 года мой отец писал своей теще, моей бабушке Жене: «Этот месяц был для меня крайне тяжел, и до сего времени я не могу войти в норму». Ему было трудно на войне, хотя он прежде много раз ездил в экспедиции, бывал и в горах, и в пустыне.
Теперь-то я могу ясно представить себе, что такое декабрь и январь с их морозами и ветрами в землянках, окопах, траншеях... Там нельзя согреться, обсохнуть. Вечно мокрая обувь, сырая шинель, под ногами — каша из земли и снега, не сгибающиеся от холода пальцы, обмороженные щеки... От постоянного холода все время — в напряжении, кажется, все внутри вымерзло: мысли, знания, мечты, все желания, кроме одного — согреться и отоспаться в тепле...
Все это я прочувствовала, когда в студенческие годы пошла в многокилометровый лыжный поход по брянским лесам, чтобы проверить себя «на выживаемость», не подумав по глупости, что могу обременить других людей. Я скрыла, что у меня был туберкулез позвоночника. Слава Богу — все обошлось...
Лыжные ботинки промокали через полчаса пути. А через два часа в них начинало хлюпать. Остановишься — мерзнешь, белье тоже становится влажным, ветер сразу прохватывает. У костра полегче, но: лицо горит от тепла, от варежек идет пар, а спину продирает мороз... Я думала, каково было в этих лесах зимой партизанам или солдатам, попавшим в окружение. Каждая лесная опушка может быть заминированной. Мягкий холмик снега, брошеная сторожка, лесная дорога, исполосованная следами полозьев и присыпанная сенной трухой,— все, может быть, таит смерть... Опасно разжечь костер, опасно съехать с горки, опасно войти в теплый деревенский дом, где пахнет разогретыми на печке полушубками...
А нам, туристам, было хорошо! Подумаешь, ботинки промокли, руки озябли, рюкзак потяжелел, ноги еле идут... Зато нас ждал веселый ужин в натопленном доме, разговоры и флирт, и даже, может быть, танцы, и незачем особенно спешить, можно не семь дней идти, а восемь, и у нас полно крупы, концентратов, а в деревне можно купить курицу и устроить пир... И весело было наблюдать, как в лесу начинает скапливаться темнота под елями, синеет снег, зажигается серпик молодого месяца, робко затепливаются звезды на еще светлом небе...
А мой отец смотрел на знакомые ему, астроному, звезды из сырой ямы, измученный, и надежды выжить у него не было, и наспех вырытое укрытие ни от чего не защищало, даже иллюзии защищенности не давало, и все, чем он прежде жил, теряло значение... Он еще в ноябре 1941 года писал бабушке Жене: «... возьмите девочку к себе, воспитайте и расскажите правду о маме и папе». Он знал, что сам уже ничего мне не расскажет...
5
Но вот, наконец, я попала в санаторий! Нянечка внесла меня в палату, полную детей. Все головы на кроватях повернулись ко мне, и много голосов сразу спросили:
— Девочка, как тебя зовут?
И я вместе с нянечкой громко назвала свое имя.
— Марианна! Марианна! — полетело по палате, и я обрадовалась, что у меня такое красивое имя.
Палата была светлая и показалась мне огромной. Дети держали в руках настоящие пестрые игрушки и книжки, а в простенке между двух окон стояло черное важное пианино. Я почувствовала себя счастливой. Начиналась веселая детская жизнь...
Одним из первых вопросов, который дети задавали тогда друг другу при знакомстве, был: «А где твой папа?»
Как обидно было тому, кто не мог гордо ответить: «Конечно, на фронте!» Потому что следующая фраза нового знакомца была: «А мой — на фронте! Он — командир!» Я радовалась, что могла с достоинством отвечать: «Мой тоже на фронте! Он тоже командир! Самый главный!»
У нас, пяти-шестилетних собеседников, самое героическое, самое опасное связывалось почему-то с командирской должностью. Как будто простому солдату было на войне легче. Дети стыдились говорить, что их отцы — обычные солдаты. Каждому хотелось украсить своего отца ореолом особенности. Поэтому все придумывали, что их отцы кем-то командуют. Кто был похитрей, хвастал, что его отец — разведчик или танкист. Все завидовали детям летчиков. А на счастливчика, отец которого служил в кавалерии, смотрели, как на героя. Как будто не отец его, а он сам скакал на горячем коне, размахивая сверкающей саблей, в гуще поверженных врагов. Враги валялись, как тряпочные куклы, набитые ватой или опилками. Кровь, раны, крики, стоны, пот, грязь, — этого мы и представить себе не могли. В кино раненых аккуратно бинтовали и тащили к своим красивые, сильные, героические санитарки.
Представление о фронте было у нас романтически-открыточное. Позже, уже старшеклассницей, я писала такие стихи:
...И отцы приходят ночью к нам во сне
С острой саблей и, конечно, на коне!
И, конечно, великаны-силачи.
(Где их лысины и хрупкие очки?).
И, конечно, мчатся, словно ураган,
На трусливого и глупого врага.
Как легко мы, дети, самоутверждались! И зарабатывали себе авторитет за счет страданий наших отцов. Мы хвастались напропалую их выдуманными подвигами и не подозревали, каково им на самом деле.
Не сознавали мы и трагизма собственного положения. Просто жили день заднем, играли, ссорились, плакали от боли или обиды, учились, фантазировали, болтали — жили, привязанные к кроватям, не чувствуя особенного ущерба от своего положения, не думали о своих будущих горбах, хромоте, парализованных ногах...
Ребенок так погружен в настоящее, что будущее для него не существует. Оно может возникнуть вдруг в какой-нибудь заманчивой фантазии, но оно так же абстрактно, как загробная жизнь для занятых своими делами взрослых. Конечно, все дети хотят поскорее вырасти, стать взрослыми, то есть — сильными, независимыми. Но что такое — действительно быть взрослыми, они не знают.
Вот — моя белая кроватка в палате. В головах к спинке кровати привязан конверт для игрушек. Я могу просунуть руку между прутьями спинки и достать мелкую игрушку. Если нужна крупная, приходится просить няню дать куклу или медвежонка, или книжку. Я прочно привязана к кровати, чтобы не прыгала на ней и не нагружала разрушенный позвоночник. От подмышек до колен я в гипсовом лотке. Плечи прижаты к жесткому матрацу «баранками» — мягкими ватными жгутами, к которым пришиты прочные лямки, завязанные на раме кровати. Гипсовая кроватка тоже привязана к раме, а я зашнурована, как ботинок, длинными шнурами в матерчатом корсете вместе с гипсом. Ноги привязаны к кровати «баранками» в коленях и на щиколотках. Головой можно вертеть направо и налево, можно контрабандой подсунуть под голову кулак или свернутое в комок полотенце. Подушки не полагается. На подушках лежат счастливчики, у которых туберкулез суставов...