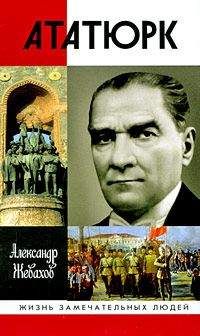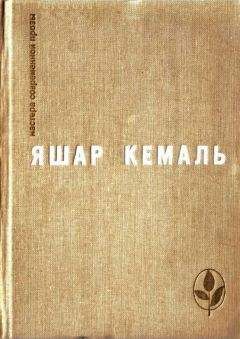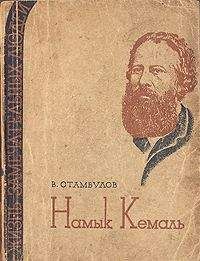С. Ковалевская - Воспоминания детства
Марья Васильевна уже отужинала; по случаю праздника она не работала, а сидела за столом, покрытым белою скатертью, и читала какую-то книжку божественного содержания. Перед образами теплилась лампадка; после темного страшного коридора комнатка ее показалась мне необыкновенно светлой и уютной, а она сама такой доброй и хорошей.
— Я с вами проститься пришла, милая, милая Марья Васильевна! — проговорила я одним залпом, и, прежде чем я успела кончить, она уже подхватила меня и стала покрывать меня поцелуями. Она целовала меня так порывисто и так долго, что мне снова стало жутко, и я начала уже подумывать, как бы мне вырваться от нее, опять ее не обидев, когда припадок жестокого кашля заставил ее, наконец, выпустить меня из своих объятий.
Этот ужасный кашель преследовал ее все сильнее и сильнее. «Всю ночь я сегодня, как собака, пролаяла», — говорила она, бывало, сама о себе с какою-то угрюмой иронией.
С каждым днем становилась она все бледнее и сосредоточеннее, но упорно отклоняла предложения моей матери обратиться за советом к доктору; у нее являлось даже какое-то злобное раздражение, если кто-нибудь заговаривал о ее болезни.
Таким образом протянула она года два или три, почти до самого конца оставаясь на ногах; она слегла лишь дня за два, за три перед смертью, и агония ее, говорят, была очень мучительна.
По распоряжению моего отца ей устроили очень пышные (по деревенским понятиям) похороны. Не только вся прислуга, но и вся наша семья, даже сам барин, на них присутствовали. Феклуша тоже шла за гробом и рыдала навзрыд. Одного Филиппа Матвеевича на ее похоронах не было: не дождавшись ее смерти, он еще за несколько месяцев перед тем перешел от нас на другое, более выгодное место где-то вблизи Динабурга.
III. Мисс Смит
С переездом в деревню все в доме у нас круто изменилось, и жизнь моих родителей, до тех пор веселая и беспечная, сразу приняла более серьезную складку.
До тех пор отец мало обращал на нас внимания, считая воспитание детей женским, а не мужским делом. Анютой он занимался немножко более, чем другими детьми, так как она была старшая и очень забавна. Он любил побаловать ее при случае, зимою брал ее иногда с собою покататься в саночках и любил похвастаться ею перед гостями. Когда ее шалости превышали всякую меру и решительно выводили из терпения всех домашних, на нее приходили иногда с жалобой к отцу, но он обыкновенно обращал все дело в шутку, и она сама отлично понимала, что хотя он иногда, для виду, делает строгое лицо, но в сущности сам готов посмеяться ее проказам.
Что касается нас, младших детей, то отношение отца к нам ограничивалось тем, что при встрече с нами он справлялся у няни, здоровы ли мы, ласково щипал нас за щеки, чтобы убедиться, плотненькие ли они у нас, и иногда брал нас на руки и подбрасывал кверху. В торжественные дни, когда отец отправлялся куда-нибудь на официальное представление и облекался в полную парадную форму, с орденами и звездами, нас призывали в гостиную «полюбоваться на папашу в параде», и это зрелище доставляло нам необычайное удовольствие; мы прыгали вокруг него, хлопая в ладоши от восторга при виде его сияющих эполет и орденов.
Но по приезде в деревню это благодушное отношение, существовавшее до тех пор между отцом и нами, внезапно изменилось. Как нередко случается в русских семьях, отец вдруг сделал неожиданное открытие, что дети его далеко не такие примерные, прекрасно воспитанные дети, как он полагал.
Началось это, кажется, с того, что мы с сестрой раз убежали из дому, заблудились, пропадали целый день, а когда нас разыскали к вечеру, мы успели объесться волчьими ягодами и проболели несколько дней.
Это происшествие показало, что надзор за нами крайне плох. За этим первым открытием пошли другие; разоблачение следовало теперь за разоблачением. До сих пор все твердо верили, что сестра моя чуть ли не феноменальный ребенок, умный и развитой не по летам. Теперь же вдруг оказалось, что она не только из рук вон избалована, но для двенадцатилетней девочки до крайности невежественна, даже писать правильно по-русски не умеет.
Что еще хуже — за француженкой открылось что-то такое нехорошее, что при нас, детях, и говорить об этом не полагалось.
Смутно вспоминаются мне эти печальные дни, последовавшие за нашим побегом, как род тяжелого домашнего бедствия. В детской целый день шум, крик и слезы. Все перессорились между собой и всем достается, и правому и виноватому. Папаша гневается, мама плачет, нянюшка ревет, француженка ломает руки и укладывает свои пожитки. Мы с сестрой присмирели, притихли и пикнуть не смеем, так как теперь каждый срывает на нас свою досаду, и малейший проступок ставится нам в тяжелую вину. Тем не менее, мы с любопытством и даже не без некоторого детского злорадства следим за тем, как старшие ссорятся, и ждем — «чем-то все это разрешится?»
Отец, не любивший полумер, решился на коренное преобразование всей системы нашего воспитания. Француженку прогнали, нянюшку отставили от детской и определили смотреть за бельем, а в дом взяли двух новых лиц: гувернера поляка и гувернантку англичанку.
Гувернер оказался тихим и знающим человеком, давал превосходные уроки, но собственно на воспитание мое имел мало влияния. Зато гувернантка внесла в нашу семью совсем новый элемент.
Хотя она воспитывалась в России и хорошо говорила по-русски, но она вполне сохранила все типические особенности англосаксонской расы: прямолинейность, выдержку, уменье всякое дело довести до конца. Эти качества давали ей громадное преимущество над остальными домашними, которые все отличались совсем противоположными свойствами, и ими объясняется то влияние, которое она приобрела в нашем доме.
Поступив к нам, все ее старания стали клониться к тому, чтобы устроить из нашей детской род английской nursery[5], в которой она могла бы воспитать примерных английских мисс. А бог ведает, как трудно было завести рассадник английских мисс в русском помещичьем доме, где веками и поколениями привились привычки барства, неряшливости и «спустя рукава». Однако, благодаря ее замечательной настойчивости, она все же до известной степени добилась своего.
С сестрой моей, привыкшей до тех пор к полной свободе, ей, правда, никогда не удалось справиться. Года полтора, два прошли у них в постоянных стычках и столкновениях. Наконец, когда Анюте минуло 15 лет, она окончательно вышла из повиновения. Фактически акт ее освобождения из-под опеки гувернантки выразился тем, что кровать ее перенесли из детской в комнату рядом с маминой спальней. С этого дня Анюта стала считаться взрослой барышней, и гувернантка при всяком удобном случае торопилась выразить как-нибудь осязательно, что теперь ей уже нет дела до Анютиного поведения, что она умывает себе руки.