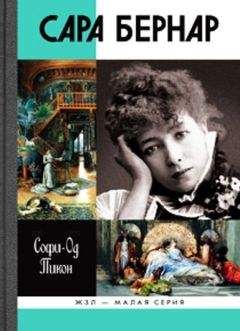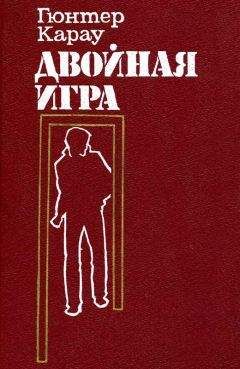Сара Бернар - Моя двойная жизнь
По дороге я узнала, что эти господа собирались заказать ужин в модном кабаре в окрестностях Отея. Приедут еще и другие гости, и все они должны встретиться там.
Я почти не обращала внимания на то, о чем говорили мама с тетей, потому что, когда речь заходила обо мне, они чаще всего начинали разговаривать по-английски или по-немецки, бросая на меня веселые и ласковые взгляды.
После долгого путешествия, доставившего мне огромное удовольствие, ибо, прильнув к стеклу, я во все глаза глядела на дорогу — серую, грязную, с некрасивыми домами и чахлыми деревьями, но мне-то она казалась великолепной… потому что это была все-таки какая-то перемена, экипаж остановился у дома 18 по улице Буало в Отее. На калитке — длинная металлическая дощечка с золотыми буквами на черном фоне.
— Надеюсь, ты скоро сумеешь прочитать, что там написано, — сказала мама.
— Пансион госпожи Фрессар, — шепнула мне на ухо тетя, и я храбро ответила маме:
— Там написано «Пансион госпожи Фрессар».
При виде моей наивной самоуверенности мама, тетя и трое их друзей не могли удержаться от смеха, и так, со смехом, мы вошли в пансион.
Госпожа Фрессар сама вышла нас встречать. Она мне очень понравилась. Среднего роста, немного полноватая, с седеющими волосами под Севинье[3], большими, прекрасными, как у Жорж Санд, глазами, ослепительно белыми зубами на слегка смуглом лице, она дышала здоровьем, в словах ее чувствовалась доброта, руки у нее были пухлые, а пальцы длинные.
Она ласково взяла меня за руку и, став на одно колено, чтобы очутиться на одном со мной уровне, обратилась ко мне своим мелодичным голосом:
— Вы не боитесь, моя девочка?
Я покраснела и ничего не ответила. Она задала мне еще несколько вопросов. И ни на один я не ответила. Все окружили меня.
— Отвечай, малышка!
— Ну же, Сара, будь умницей!
— Ах, какая скверная девочка!
Напрасные усилия. Я замкнулась в себе и безмолвствовала.
После положенного визита в дортуары, в столовую и комнату для рукоделия, после неуемных восторгов: «Как здесь все прекрасно содержится! Какая чистота!» — и тысячи таких же глупостей по поводу комфорта этих детских тюрем мать вместе с госпожой Фрессар отошли в сторонку. Я держалась за мамины колени и мешала ей двигаться.
— Вот предписание врача. — И мама протянула длинный список с перечнем того, что следовало делать.
Госпожа Фрессар улыбнулась не без иронии.
— Знаете, госпожа, — сказала она матери, — мы не сможем ее так завивать.
— Скорее уж развивать, — ответила мать, проводя по моей шевелюре затянутыми в перчатку пальцами. — Это не волосы, это грива! Прошу вас, не расчесывайте ее, не проведя хорошенько щеткой по волосам, иначе вы ничего не добьетесь, только сделаете ей больно. А что дети кушают в четыре часа? — продолжала расспрашивать она.
— Кусок хлеба и то, что оставляют им к чаю родители.
— Тут вот двенадцать баночек с разным вареньем, видите ли, у девочки слабый желудок, один день ей надо давать варенье, другой — шоколад. Здесь шесть фунтов.
Госпожа Фрессар улыбнулась все так же насмешливо, но доброжелательно. Она взяла фунт шоколада и громко сказала:
— От «Маркиза»! Ну что ж, девочка, сразу видно, как вас балуют!
И она потрепала меня по щеке своими белыми пальцами. Затем глаза ее с удивлением остановились на большой банке.
— А это, — сказала мать, — это крем, который делаю я сама. Я хочу, чтобы каждый вечер перед сном моей дочери натирали им лицо, шею и руки.
— Но… — попыталась было возразить госпожа Фрессар, однако мама нетерпеливо продолжала:
— Я заплачу двойную цену за стирку белья. — (Бедная моя мамочка! Я прекрасно помню, что белье мне меняли раз в месяц, как всем остальным.)
Наконец пробил час расставания, в общем порыве все сгрудились вокруг мамы, которая как бы растворилась под градом поцелуев и всевозможных увещеваний: «Это пойдет ей на пользу!.. Ей это необходимо!.. Вот увидите, она станет совсем другой, когда вы снова сюда приедете!..» — и так далее.
Генерал Полес, очень меня любивший, взял меня на руки и, подняв вверх, сказал:
— Девочка, тебе предстоит жить в казарме! Придется шагать в ногу.
Я дернула его за длинные усы, а он, подмигнув в сторону госпожи Фрессар, сказал:
— Только не вздумай так поступать с этой дамой! — (У госпожи Фрессар намечались маленькие усики.)
Раздался пронзительный, звонкий смех моей тети. Губы мамы тронула чуть заметная улыбка. И все общество двинулось прочь, как бы подхваченное вихрем взметнувшихся юбок и нескончаемых разговоров, меня же тем временем повели в клетку, где мне предстояло жить затворницей:
Два года я провела в этом пансионе. Я научилась читать, писать, считать. Научилась тысяче всяких игр, о которых раньше понятия не имела.
Я выучилась водить хороводы и петь песни, вышивать для мамы платки. Чувствовала я себя относительно счастливой, потому что мы имели возможность выходить по четвергам и воскресеньям, и эти прогулки давали мне ощущение свободы. Земля, по которой я ступала на улице, казалась мне совсем иной, чем земля большого сада пансиона.
И потом, госпожа Фрессар любила устраивать маленькие торжества, которые неизменно приводили меня в безумный восторг. Иногда по четвергам к нам приезжала читать стихи мадемуазель Стелла Кола, только что дебютировавшая в «Комеди Франсез». В ожидании этого события я не смыкала глаз всю ночь. Утром я тщательно причесывалась, с бьющимся сердцем готовясь услышать то, что было мне совсем непонятно, но производило чарующее впечатление. К тому же эту юную особу окружала легенда: она чуть ли не бросилась под копыта лошадей императорской кареты, дабы привлечь внимание государя и добиться помилования для брата, принимавшего участие в заговоре против него.
В пансионе у госпожи Фрессар жила сестра мадемуазель Стеллы Кола, Клотильда, ныне жена министра финансов Пьера Мерлу.
Стелла Кола была небольшого роста, белокурой, с голубыми, немного суровыми, но не лишенными глубины глазами. Голос у нее был низкий, и я трепетала всеми фибрами своей души, когда эта юная хрупкая девушка, такая бледная и светловолосая, принималась читать монолог Гофолии.
Сколько раз, сидя потом на своей детской кроватке, я пыталась подражать ей и произносила как можно тише:
Вострепещи… о дочь достойная.[4]
Втянув голову в плечи и надув щеки, я начинала:
Вострепещи… вос… трепещи… востре-е-е-пещи..
Однако это всегда плохо кончалось, потому что начинала-то я потихоньку, едва слышным голосом, а потом невольно возвышала его и заснувшие было подружки, разбуженные моими упражнениями, разражались веселым хохотом. Я в ярости бросалась то вправо, то влево, кого-то пиная ногой, а кого-то награждая пощечиной, и, конечно, за все получала сторицею…