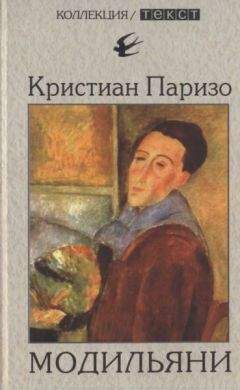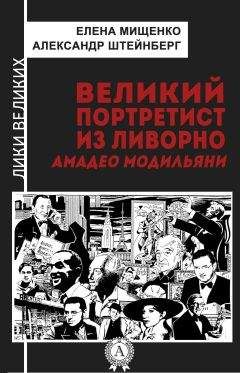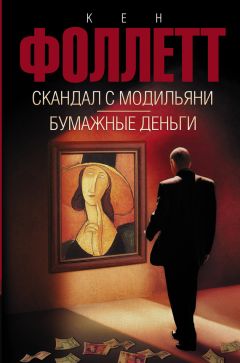Юрий Сенкевич - Путешествие длиною в жизнь
Естественно, что там, в Каколе, я набирался не только свежего воздуха, но и "свежего" деревенского словесного фольклора. И не только его — за лето я привыкал к особому, псковскому выговору и, возвращаясь в Ленинград, должен был чуть ли не переучиваться говорить на нормальном русском языке, отвыкая от "чоканья": крыльчо, чапля, пальчами…
Конечно, воспоминания тех лет окрашены у меня в розовые тона. Это совершенно естественно, ведь это воспоминания детства. Я не мог понимать в полной мере трудностей тогдашней жизни, а был счастлив: родители со мной, друзей много… Что еще нужно ребенку для этого ощущения?
Когда мне было уже лет тринадцать, я впервые увидел свою другую бабушку, Анну Ивановну Сенкевич, познакомился со своими тетками, сестрами отца. Мы с мамой поехали на лето в Одессу, где все они жили, и остановились у родственников в какой-то огромной коммунальной квартире на улице Красной Армии (Пантелеймоновской). Бабушка жила на Пушкинской, в самом центре Одессы, и мы ходили к ней в гости. Мой двоюродный брат Володя показал мне море, и я впервые увидел эту необыкновенную красоту, эту огромную бирюзовую чашу. Мы ходили купаться на пляж в Отрадном, и я никак не хотел вылезать из воды. Мне запомнилось огромное количество маленьких лодочек, небольших парусников, я увидел знаменитые шаланды. За всеми этими необыкновенными для меня впечатлениями я не мог знать о той драматической ситуации, которая была в семье бабушки и которую от меня скрывали.
И здесь надо рассказать о трагической странице в биографии моего отца, о том, в чем он так и не решился признаться мне до самой своей смерти. Однажды я увидел, как отец заполняет какую-то анкету, и мне захотелось прочитать, что же в ней написано. В графе "Отец" стояло примерно следующее: "Осип Георгиевич Сенкевич, из рабочих, скончался от хронического алкоголизма в таком-то году…"
На самом же деле прочитанная мною запись в анкете не имела к моему деду никакого отношения, а была вынужденной мерой, поскольку происхождение от люмпена или пропойцы считалось самым благонадежным в эпоху диктатуры пролетариата.
Мой дед Осип Георгиевич вовсе не умер в каком-то там году, никогда не был алкоголиком, а был очень состоятельным человеком и до революции имел на Украине свое поместье и большой собственный дом в Киеве, на Подоле. Шестеро его детей учились в гимназии. Когда после революции 1917 года началась "экспроприация экспроприаторов", дед лишился своего состояния и, чтобы содержать семью, в которой были еще не вставшие на ноги дети, стал преподавать в одной из киевских школ французский язык и музыку. Но в те неспокойные, смутные времена французским языком и музыкой прокормиться было нельзя, и вскоре стало ясно, что семья долго так не протянет.
И тогда родственники со стороны бабушки Анны Ивановны, происходившей из семьи священнослужителей Дыбенко, посоветовали деду: "Иди в священники. Ты человек хорошо образованный…" Он так и сделал. Конечно, ему составили протекцию, просто так ему бы это не удалось. Дед с семьей уехал в Измаил, где получил приход. Потом уже семья перебралась в Одессу.
У деда было два сына и четыре дочери. Сыновья — мой отец и мой дядя уехали в Ленинград, где отец поступил на рабфак, а потом в Военно-медицинскую академию. Но чтобы иметь право учиться на рабочем факультете, надо было иметь соответствующее происхождение. И тогда муж старшей сестры отца, юрист, посоветовал ему писать в анкетах то, что потом, через много лет, я прочитал в одной из них. Не последуй отец совету своего родственника, вряд ли ему, сыну помещика, да еще ставшего священником, удалось бы получить образование, а потом и работу по специальности. Так отцу, принимая во внимание обстановку в стране в те годы, приходилось скрывать, что его отец жив. Скрывали это и от меня.
Но связи с родными отец не порывал. Он ездил в Одессу, встречался с родителями, сестрами, посылал деньги. И моя мама знала, что надо регулярно отослать в Одессу какую-то сумму. Но со мной отец никогда не заговаривал о деде. Я даже не знал, как он выглядит. Однажды мне попалась в руки фотография, на которой были бабушка, отец и какой-то представительного вида бородатый мужчина. Я спросил: "А кто этот бородатый дед?" — "Да так, один знакомый…"
Хотя отец и скрывал от всех свое происхождение, но иногда это обнаруживалось в самых неожиданных случаях. Помню, что когда мы гуляли с ним по Ленинграду и заходили в Исаакиевский собор, то меня поражало, как подробно и интересно рассказывает он о сюжетах росписей на библейские темы. Я спросил его однажды, откуда он все это знает. Отец ответил: "Этому нас учили в школе. Давно…"
Много позже, уже после смерти отца, когда ко мне приехал в гости двоюродный брат Володя, я узнал от него в подробностях трагическую ситуацию с дедом и отцом, который так и не решился рассказать мне обо всем, хотя времена были уже совсем другие и ему ничто не грозило. Может, он оберегал мою судьбу, а может, это был страх, въевшийся в души тех, кто пережил страшные годы репрессий? Не знаю… Не мне судить…
Мы с Володей сидели у нас на даче, разговаривали, и я спросил брата:
— А ведь у нас с тобой общий дед. Кем он был?
И тут Володя поведал мне многое о том, что пришлось пережить деду Осипу.
— Он был потрясающий мужик! И знаешь как он тебя любил!
— Как же он мог меня любить, если давно умер?
— Нет, он тебя видел. Когда вы приезжали в Одессу, он подглядывал за тобой в щелочку. Ему нельзя было к тебе подойти. А ведь ты единственный из внуков продолжатель его фамилии…
Могу себе представить, что приходилось переживать деду Осипу в те дни, когда он не мог даже приласкать внука, находившегося от него в нескольких шагах, в соседней комнате! Внука, носившего его фамилию: у брата отца были только девочки, а внуки от дочерей носили другие фамилии.
Кстати, одна из моих одесских тетушек носила по мужу фамилию Сырых, я же в шутку называл ее Вареных. Я очень любил, когда тетя Лена приезжала к нам: сразу брал ее в плен и заставлял рассказывать разные истории про Одессу и тамошнюю жизнь. У тети Лены было удивительное чувство юмора, а говорила она, как все одесситы. Меня это страшно забавляло. Ее особый выговор очень колоритно выделялся на фоне рафинированного русского языка ленинградцев, точнее сказать, языка старых петербуржцев. С подачи тети Лены Одесса для меня была почти загадочным, непонятным миром, где происходит бог знает что: какие-то бандиты с Молдаванки, биндюжники, Привоз, Пересыпь… Мы тогда еще не могли читать "Одесские рассказы" Бабеля, поскольку произведения репрессированного писателя были под запретом, и я узнал об особенностях одесской жизни именно от тети Лены. Потом ее дочь Нина, которая была старше меня, приехала учиться в Ленинград и часто брала меня с собой в театры.