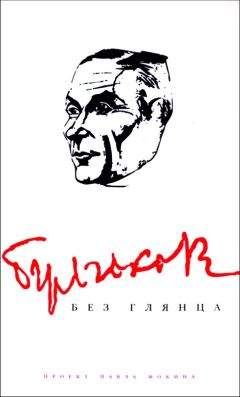Павел Фокин - Достоевский без глянца
Из дневника Елены Андреевны Штакеншнейдер:
19 октября 1880. Мы… сидели с Анной Григорьевной. И отвела же она наконец свою душу. Сестры слушали ее в первый раз и то ахали с соболезнованием, то покатывались со смеха. Действительно, курьезный человек муж ее, судя по ее словам. Она ночи не спит, придумывая средства обеспечить детей, работает как каторжная, отказывает себе во всем, на извозчиках не ездит никогда, а он, не говоря уже о том, что содержит брата и пасынка, который не стоит того, чтобы его пускали к отчиму в дом, еще первому встречному сует, что тот у него ни попросит.
Придет с улицы молодой человек, назовется бедным студентом, — ему три рубля. Другой является: был сослан, теперь возвращен Лорис-Меликовым, но жить нечем, надо двенадцать рублей, — двенадцать рублей даются. Нянька старая, помещенная в богадельню, значит, особенно не нуждающаяся, придет, а приходит она часто. «Ты, Анна Григорьевна, — говорит он, — дай ей три рубля, дети пусть дадут по два, а я дам пять». И это повторяется не один раз в год и не три раза, а гораздо, гораздо чаще. Товарищ нуждается или просто знакомый просит — отказа не бывает никому. Плещееву надавали рублей шестьсот; за Пуньковича поручались и даже за м-м Якоби. «А мне, — продолжала изливаться Анна Григорьевна, — когда начну протестовать и возмущаться, всегда один ответ: «Анна Григорьевна, не хлопочи! Анна Григорьевна, не беспокойся, не тревожь себя, деньги будут!»» «Будут, будут!» — повторяла бедная жена удивительного человека и искала в своей модной юбке кармана, чтоб вынуть платок и утереть выступившие слезы; а сестры меняли смех на ахи!
«Вот получим, — всхлипывая, говорила она, — от Каткова пять тысяч рублей, которые он нам еще должен за «Карамазовых», и куплю землю. Пусть ломает ее по кускам и раздает! Вы не поверите, на железной дороге, например, он, как войдет в вокзал, так, кажется, до самого конца путешествия все держит в руках раскрытое портмоне, так его и не прячет, и все смотрит, кому бы из него дать что-нибудь. Гулять ему велели теперь, но он ведь и гулять не пойдет, если нет у него в кармане десяти рублей. Вот так мы и живем. А случись что-нибудь, куда денемся? Чем мы будем жить? Ведь мы нищие! Ведь пенсии нам не дадут!»
И в самом деле ее жаль, трудно ей в самом деле. Но как не удивляться ему и не любить его? А еще говорят, что он злой, жестокий. Никто ведь не знает его милосердия, и не пожалуйся Анна Григорьевна, и мы бы не знали.
Александр Егорович Ризенкампф:
Федор Михайлович принадлежал к тем личностям, около которых живется всем хорошо, но которые сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но, при своей доверчивости и доброте, он не хотел вникать в дело и обличать прислугу и ее приживалок, пользовавшихся его беспечностью.
Александр Егорович Врангель:
Снисходительность Федора Михайловича к людям была как бы не от мира сего. Он находил извинение самым худым сторонам человека, — все объяснял недостатком воспитания человека, влиянием среды, в которой росли и живут, а часто даже их натурою и темпераментом.
«Ах, милый друг, Александр Егорович, да такими ведь их Бог создал», — говаривал он. Все забитое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нем особое участие. Его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близко знавшим его. Кто не помнит его заботливости о семье его брата Михаила Михайловича, его попечения о маленьком Паше Исаеве и о многих других.
Николай Николаевич Страхов:
Никогда не было заметно в нем никакого огорчения или ожесточения от перенесенных им страданий, и никогда ни тени желания играть роль страдальца. Он был безусловно чист от всякого дурного чувства по отношению к власти; авторитет, который он старался поддержать и увеличить, был только литературный; авторитет же пострадавшего человека никогда не выступал, кроме тех случаев, когда во имя его нужно было требовать свободы мысли и слова, доказывать, что его мысли о правительстве никто не имеет права считать потворством или угодливостью. Федор Михайлович вел себя так, как будто в прошлом у него ничего особенного не было, не выставлял себя ни разочарованным, ни сохраняющим рану в душе, а, напротив, глядел весело и бодро, когда позволяло здоровье. Помню, как одна дама, в первый раз попавшая на редакционные вечера Михаила Михайловича (кажется, они были по воскресеньям), с большим вниманием вглядывалась в Федора Михайловича и наконец сказала: «Смотрю на вас и, кажется, вижу на вашем лице те страдания, какие вы перенесли…» Ему были видимо досадны эти слова. «Какие страдания!..» — воскликнул он и принялся шутить о совершенно посторонних предметах. Помню также, как, готовясь к одному из литературных чтений, бывших тогда в большой моде, он затруднялся, что ему выбрать. «Нужно что-нибудь новенькое, интересное», — говорил он мне. «Из «Мертвого дома»?» — предложил я. «Я уж часто читал, да и не хотелось бы мне. Мне все тогда кажется, как будто я жалуюсь перед публикою, все жалуюсь… Это нехорошо».
Вообще он не любил обращаться к прошлому, как будто желая вовсе его откинуть, и если пускался вспоминать, то останавливался на чем-нибудь радостном, как будто хвалился им. Вот почему из его разговоров трудно было составить понятие о случаях его прежней жизни.
Мария Николаевна Стоюнина (1846–1940), общественная деятельница, педагог, гимназическая подруга А. Г. Достоевской:
Достоевский сам всегда и везде страдал душевно за всех мучимых, за всех людей, но особенно его терзали страдания детей. Раз он, помню, прочел в газете, как женщина своего ребенка утопила нарочно в помойке. Так Достоевский после ночь или две не спал и все терзался, думая о ребенке и о ней. Он никак не мог выносить страданий детей. И как человек-то оттого он и производил, может быть, сильное впечатление, что был он человек любящий и страдающий, умеющий страдать…
Анна Григорьевна Достоевская:
Из совместной четырнадцатилетней жизни с Федором Михайловичем я вынесла глубокое убеждение, что он был один из целомудреннейших людей. И как мне горько было прочесть, что столь любимый мною писатель И. С. Тургенев считал Федора Михайловича циником и позволил себе назвать его «русским маркизом де Сад».
Александр Егорович Врангель:
Что меня всегда поражало в Достоевском, — это его полнейшее в то время (в 1850-е гг. — Сост.) безразличие к картинам природы — они не трогали, не волновали его. Он весь был поглощен изучением человека, со всеми его достоинствами, слабостями и страстями. Все остальное было для него второстепенным.