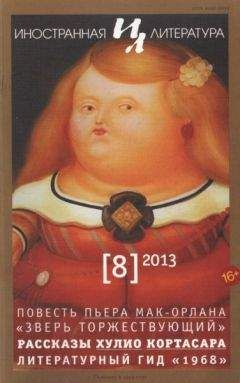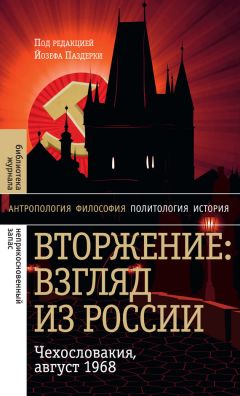Вадим Делоне - Портреты в колючей раме
Я с грустью думал о том, что покидаю стены тюрьмы. Лефортово, тишина которого многих сводила с ума, теперь казалось мне чуть ли не последним пристанищем, последней возможностью побыть с самим собой наедине. Ведь впереди этап в Сибирь.
Заскрипели, залязгали двери, захлопнулась крохотная клетушка уже знакомого воронка, в которой даже закурить невозможно – так стиснут ты качающимися, наплывающими на тебя в дорожной тряске железными стенами. И снова изнурительный шмон перед входом в пересылку «Красная Пресня». Собирая растерзанные вещички в боксике предварительных камер, я прислушивался к многоголосой перекличке. Тревога и ожидание пути в неизвестное, пути, с которого можно и не вернуться, будоражит людей, взвинчивает их до предела. Из всех боксиков, по всему гулкому переходу неслись истошные крики, брань, песни. Голоса перекрывали друг друга и терялись, вопрошали, не дожидаясь ответа, и отвечали никому и всем сразу. И вдруг в этом хаосе криков я узнал знакомый голос Володи Дремлюги, моего подельника. Радость, обуявшая нас обоих, была неописуемой, как будто не два месяца, а десятки лет прошли со времени нашей последней встречи в зале суда на скамье подсудимых. «Вадик, – кричал Дремлюга, надрывая свой и без того зычный голос, – Вадик, я двужильный, я все выдержу, я из работяг, с детства скитаюсь, я не пропаду, глотку им всем перегрызу, ты же знаешь, кому угодно лапши на уши навешаю. В случае чего в побег уйду, все равно вырвусь из этого социалистического концлагеря. А тебя ведь затравить могут, я им за тебя никогда не прощу. Ты же поэт, они над тобой издеваться будут. Эх, только бы в одну зону попасть, вместе…» «Милый Дремлюга, – думал я, – где уж там в одну зону. Лагерей по России не счесть…» Дремлюга понял мое молчание. «Вадик, почитай стихи на прощанье!» – крикнул он. Я начал читать отрывки из своей «Лефортовской баллады»:
Чем дышишь ты, моя душа,
Когда остатки сна ночами
Скребут шагами сторожа,
Как по стеклу скребут гвоздями?
Там за решеткой, на заре,
Там, за разделом хлебных паек,
На белокаменной зиме
Раскинул иней ряд мозаик,
Людей припомним не со злом,
Душа, сочувствий мне не требуй,
Пусть путь мой крив, как рук излом,
В немой тоске воздетых к небу.
Но вдруг, душа, в моей казне
Не хватит сил – привычка к шири,
И дни, отпущенные мне,
Одним движеньем растранжирю?
А если я с ума сойду —
Совсем, как сходят без уловки,
На полном поезда ходу,
Не дожидаясь остановки?
…
Я вижу профиль Гумилева,
Ах, подпоручик, Ваша честь,
Вы отчеканивали слово,
Как шаг, когда Вы шли на смерть.
Вас не представили к награде,
К простому третьему кресту,
На Новодевичьем в ограде,
И даже скромно на миру.
И где могила Мандельштама,
Метель в Сучане не шепнет,
Здесь не Михайловского драма —
Куда похлеще переплет.
На глубину строки наветы…
За голубую кровь стихов
В дорогу, синюю от ветра,
Этапом мимо городов.
И он строфы не переправит…
И, умирая, понял вновь,
Что волкодавов стая травит
Не только тех, в ком волка кровь…
Потом Галича, потом еще чьи-то, читал, надрываясь, с таким восторгом, как не читал никогда прежде и потом. Мандельштама я все откладывал, берег напоследок. Я знал, что в этих самых боксиках этой самой пересылки тридцать лет назад за свои бессмертные стихи погибал Осип Мандельштам. Я вспомнить хотел эти несколько строк и дать им рожденье второе.
Гомон в камерах улегся. Пересылка затихла. В гулком коридоре стихи были отчетливо слышны:
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца —
Там припомнят кремлевского горца.
Двери боксика распахнулись. Сизый от ярости капитан даже не кричал, а как-то всхлипывал, захлебываясь слюной: «Сука, антисоветчик, фашист! В наручниках мы тебя обломаем!» Двое здоровенных надзирателей деловито тюкали меня головой об стену. Изящные браслеты американского производства сомкнулись на выгнутых за спиной руках. Щемящая боль покатилась по позвоночнику. Меня пинками поволокли к боксу особого назначения. В другую сторону волокли Дремлюгу. Последнее, что я слышал, – его отчаянный крик: «Гады, коммунисты хуевы, не трогайте Делоне, не смейте, всю пересылку на ноги подниму!»
Не знаю, когда я очнулся и каким образом вообще пришел в себя. Я только понял, что стою на коленях, упершись лицом в цемент. Примерно около получаса я пытался подняться, но это вызывало страшную режущую боль. Я давно слышал про американские браслеты, что каждое движение приводит к тому, что цепочка на наручниках защелкивается еще на одно деление. Торжество автоматики! Заключенный пытает самого себя. Не нужно применять силу и утруждать надзирателей. Но я все же продолжал пытать себя, пытать с одной только целью – подняться на ноги. За моими упражнениями наблюдали с двух сторон, через два глазка, один из которых наподобие перископа был вмонтирован в стену толщиной около трех метров. Глазки открывались, и в них появлялось «недремлющее око». Я все-таки встал и уперся лбом в стену. Дверь открылась, и появился уже знакомый мне капитан. Он все еще не мог успокоиться – такое сильное впечатление, очевидно, произвела на него моя поэзия. Он дышал мне в нос винным перегаром и тыкал в лицо горящей папиросой: «Щенок, чехов вздумал защищать, там наши парни гибнут, а ты в адвокаты полез». – «Не надобно войска вводить, когда не просят», – выдавил я. – «Ах, войска вводить не надо, гад, мы, если б не эти американцы, и по Германии бы прошлись и подальше, а ты, значит, против. Ничего, скоро порядок наведем, всех вас сгноим. А тебе, запомни, из лагеря не выйти, не поможет тебе „Голос Америки“, кровью харкать будешь, сволочь интеллигентская. Я бы сам в чехов стрелял, да вот таких, как ты, вредителей, охранять приходится». На этом его красноречие иссякло. Я то приходил в себя, то снова исчезал в какой-то липкой пелене. Дверь снова скрипнула, и я приготовился к новому докладу о международном положении и моей предательской роли в нем. Но на пороге стоял пожилой надзиратель. Опасливо озираясь, он втиснул мне в разбитые губы уже закуренную сигарету: «Покури, покури, сынок, эко они на тебя накинулись. Тут все офицерье, как прочитали в газетах про вашу демонстрацию, никак успокоиться не могут, только и злорадничают, к нам, мол, придут, голубчики, никто „Красной Пресни“ не минует, а капитан этот за пьянку из армии списан и во всем интеллигенцию винит, а что они ему сделали, ума не приложу. Я бы давно с этой работы подлой ушел, да из деревни я, инвалид, а в Москве только на такой службе прописку получить можно. Все сытнее, чем в колхозе, и комнатенка казенная». Он все говорил и говорил, поднося к губам и давая затянуться своей сигаретой, как будто вливал в горло больному глоток холодной воды. В общую камеру меня втащили уже к ночи. Первые ехидные фразы, которыми обычно встречают новичка, быстро утихли, когда блатные пригляделись. Сквозь туман я слышал голоса: «Чего это с ним, начальник? Доходяга, что ли? За что это его?» Чьи-то руки подняли меня и уложили на нары. Спал я, очевидно, долго и, когда проснулся, понял, что моего пробуждения ждали с любопытством. «Сколько же они тебя в браслетах продержали, землячок?» – «Не знаю, часов шесть, наверное». – «Шесть! Суки поганые! Не положняк! Медицинская норма полчаса! Ты же мог подохнуть. Это обрыв крови, и позвоночник ломает самозатягивающаяся змейка. А за что это ты сидишь, за какую политику?» Руки у меня не двигались, но сознание возвращалось. Я вдруг понял, почему ко мне относятся с таким искренним почтением. Я был на всю камеру единственным обладателем шевелюры. Из всех следственных тюрем не бреют головы только в Лефортово. Если бы я вошел в камеру в смокинге, я вряд ли произвел бы большее впечатление. «Так что за политика такая?» – выспрашивали меня. «Да понимаешь, земляк, за чехов заступился, устроил кипеш на Красной площади». Камера загудела. Газеты в пересыльной тюрьме полагались ежедневно, и все, конечно, прочли два потрясающих по своей загадочности фельетона «В расчете на сенсацию» и «По заслугам». И вдруг один из «героев» лежит с ними на нарах. Поднялся невероятный гвалт. Обо мне почти забыли. Выясняли свое отношение к происшедшему и причины, которые побудили меня на такую политику. Спорили между собой вплоть до драки и бесконечной ругани. Наконец, иссякнув, обратились ко мне: «Земляк, не томи душу. Мы вот все спорим, сколько вы у американцев денег получили? Мы думаем, так что если тысяч за полста, то дело доброе, мы бы тоже пошли». Я не обиделся даже, а как-то растерялся. Все пытался доказать, что ничего не получил ни от каких американцев, а выступал, чтоб каждый жил, как хочет. Блатные понимающе кивали: «Ну да, политик, что там говорить, мы знаем, везде осторожность нужна. Вот и в наручниках, видать, из тебя ничего не выпытали…» Интерес ко мне был явно утерян, и основной разговор сводился к бесчисленным спорам о том, за какую сумму можно пойти на срок. Молчание мое вызывало почтение, а возбуждение камеры не знало границ. На второй день голову мою и мошонку побрили, приведя меня к виду, предписанному инструкциями.