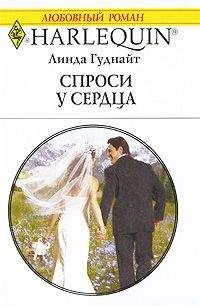Николай Никулин - Воспоминания о войне
Тяжкой была судьба тяжелораненых. Чаще всего их вообще невозможно было вытянуть из-под обстрела. Но и для тех, кого вынесли с нейтральной полосы, страдания не кончались. Путь до санчасти был долог, а до госпиталя измерялся многими часами. Достигнув госпитальных палаток, нужно было ждать, так как врачи, несмотря на самоотверженную, круглосуточную работу в течение долгих недель, не успевали обработать всех. Длинная очередь окровавленных носилок со стонущими, мечущимися в лихорадке или застывшими в шоке людьми ждала их. Раненные в живот не выдерживали такого ожидания. Умирали и многие другие. Правда, в последующие годы положение намного улучшилось.
Однако, как я узнал позже, положение раненых зимою 1942 года на некоторых других участках советско-германского фронта было еще хуже. Об одном эпизоде рассказал мне в госпитале сосед по койке: «В сорок первом нашу дивизию бросили под Мурманск для подкрепления оборонявшихся там частей. Пешим ходом двинулись мы по тундре на запад. Вскоре дивизия попала под обстрел, и начался снежный буран. Раненный в руку, не дойдя до передовой, я двинулся обратно. Ветер крепчал, вьюга выла, снежный вихрь сбивал с ног. С трудом преодолев несколько километров, обессиленный, добрался я до землянки, где находился обогревательный пункт. Войти туда было почти невозможно. Раненые стояли вплотную, прижавшись друг к другу, заполнив все помещение. Все же мне удалось протиснуться внутрь, где я спал стоя до утра. Утром снаружи раздался крик: "Есть кто живой? Выходи!" Это приехали санитары. Из землянки выползло человека три-четыре, остальные замерзли. А около входа громоздился штабель запорошенных снегом мертвецов. То были раненые, привезенные ночью с передовой на обогревательный пункт и замерзшие здесь… Как оказалось, и дивизия почти вся замерзла в эту ночь на открытых ветру горных дорогах. Буран был очень сильный. Я отделался лишь подмороженным лицом и пальцами…».
Между тем, в месте нашего расположения под Погостьем (примерно в полукилометре от передовой) становилось все многолюдней. В березняке образовался целый город. Палатки, землянки, шалаши, штабы, склады, кухни. Все это дымило, обрастало суетящимися людьми, и немецкий самолет-корректировщик по прозвищу «кочерга» (что-то кривое было в его очертаниях) сразу обнаружил нас. Начался обстрел, редкий, но продолжавшийся почти постоянно много дней, то усиливаясь, то ослабевая. К нему привыкли, хотя ежедневно было несколько убитых и раненых. Но что это по сравнению с сотнями, гибнущими на передовой! Тут я расстался с сослуживцем, приехавшим вместе со мною из ленинградской радиошколы. Это был некто Неелов. Осколок пробил ему горло, как кажется, не задев жизненных центров. Он даже мог говорить шепотом. Перемотав ему горло бинтом, я отвез его на попутной машине в санчасть, расположившуюся километрах в пяти от нас в палатках.
Странные, диковинные картины наблюдал я на прифронтовой дороге. Оживленная как проспект, она имела двустороннее движение. Туда шло пополнение, везли оружие и еду, шли танки. Обратно тянули раненых. А по обочинам происходила суета. Вот, разостлав плащ-палатку на снегу, делят хлеб. Но разрезать его невозможно, и солдаты пилят мерзлую буханку двуручной пилой. Потом куски и «опилки» разделяют на равные части, один из присутствующих отворачивается, другой кричит: «Кому?» Дележ свершается без обиды, по справедливости. Такой хлеб надо сосать, как леденец, пока он не оттает. Холод стоял страшный: суп замерзал в котелке, а плевок, не долетев до земли, превращался в сосульку и звонко брякал о твердую землю… Вот закапывают в снег мертвеца, недовезенного до госпиталя раненого, который то ли замерз, то ли истек кровью. Вот торгуются, меняя водку на хлеб. Вот повар варит баланду, мешая в котле огромной ложкой. Валит пар, а под котлом весело потрескивает огонь… На опушке леса я наткнулся на пустые еловые шалаши. Вокруг них разбросаны десятки черных морских бушлатов, фуражки с «капустой», бескозырки с ленточками и множество щегольских черных полуботинок. Здесь вчера переодевали в армейскую теплую одежду морских пехотинцев, пришедших из Ленинграда. Морячки ушли, чтобы больше не вернуться, а их барахло, никому не нужное, заметает редкий снежок… Дальше, с грузовика выдают солдатам белый (!) хлеб. (Жрать-то как хочется!!!) Это пришел отряд «политбойцов». Их кормят перед очередной атакой. С ними связаны большие надежды командования. Но и с морской пехотой тоже были связаны большие надежды… У дороги стоят повозки и передки орудий. Сами орудия и их персонал ушли в бой. Барахло, очевидно, уже никому не принадлежит, и расторопные тыловички обшаривают этот обоз в поисках съестного. У меня для такой операции еще не хватает «фронтовой закалки»… Опять кого-то хоронят, и опять бредут раненые… С грузовика оглушительно лупит по самолету автоматическая зенитная пушчонка. Та-тах! Та-тах! Тэтах!.. Но все мимо…
Вдруг серия разрывов снарядов. Дальше, ближе, рядом. На земле корчится в крови часовой, который стоял у штабной землянки. Схватился за ногу пожилой солдат, шедший по дороге. Рядом с ним девчушка-санинструктор. Ревет в три ручья, дорожки слез бегут по грязному, много дней не мытому лицу. Руки дрожат, растерялась. Жалкое зрелище! Солдат спокойно снимает штаны, перевязывает кровоточащую дырку у себя на бедре и еще находит силы утешать и уговаривать девицу: «Дочка, не бойся, не плачь!»… Не женское это дело — война. Спору нет, было много героинь, которых можно поставить в пример мужчинам. Но слишком жестоко заставлять женщин испытывать мучения фронта. И если бы только это! Тяжело им было в окружении мужиков. Голодным солдатам, правда, было не до баб, но начальство добивалось своего любыми средствами, от грубого нажима до самых изысканных ухаживаний. Среди множества кавалеров были удальцы на любой вкус: и спеть, и сплясать, и красно поговорить, а для образованных — почитать Блока или Лермонтова… И ехали девушки домой с прибавлением семейства. Кажется, это называлось на языке военных канцелярий «уехать по приказу 009». В нашей части из пятидесяти прибывших в 1942 году к концу войны осталось только два солдата прекрасного пола. Но «уехать по приказу 009» — это самый лучший выход. Бывало хуже. Мне рассказывали, как некий полковник Волков выстраивал женское пополнение и, проходя вдоль строя, отбирал приглянувшихся ему красоток. Такие становились его ППЖ,[2] а если сопротивлялись — на губу, в холодную землянку, на хлеб и воду! Потом крошка шла по рукам, доставалась разным помам и замам. В лучших азиатских традициях!
В армейской жизни под Погостьем сложился между тем своеобразный ритм. Ночью подходило пополнение: пятьсот — тысяча — две-три тысячи человек.[3] То моряки, то маршевые роты из Сибири, то блокадники (их переправляли по замерзшему Ладожскому озеру). Утром, после редкой артподготовки, они шли в атаку и оставались лежать перед железнодорожной насыпью. Двигались в атаку черепашьим шагом, пробивая в глубоком снегу траншею, да и сил было мало, особенно у ленинградцев. Снег стоял выше пояса, убитые не падали, застревали в сугробах. Трупы засыпало свежим снежком, а на другой день была новая атака, новые трупы, и за зиму образовались наслоения мертвецов, которые только весною обнажились от снега, — скрюченные, перекореженные, разорванные, раздавленные тела. Целые штабеля.