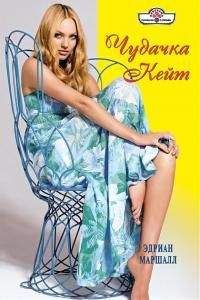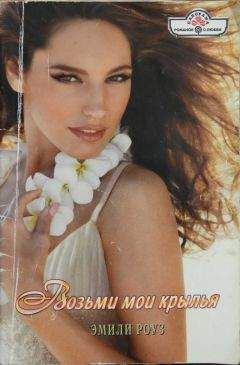Владимир Лучанинов - Люди Грузинской Церкви. Истории. Судьбы. Традиции
А после 1991 года началась война в Абхазии… Что вам сказать? До сих пор толком неизвестно, что происходило в Абхазии в начале девяностых. Можно говорить о множестве пластов, еще и переплетенных между собой. Кому подчинялись военные формирования? Кто, зачем и какие договоры подписывал? Как сдавались города и за какую цену? Наверное, это только в будущем выяснится полностью. Но мы точно знаем: нам нечего делить с абхазами. А тогда единственное, что было, – это острое эмоциональное восприятие. Многие мои друзья, которые погибли в Абхазии, были обычными людьми – они просто смотрели телевизор. Например, зять нашей прихожанки, который никогда в жизни оружие не держал, каждый вечер по телевизору слушал списки погибших. У него было трое детей и больная мать на руках, и тем не менее как-то в воскресенье, рано утром, никому ничего не сказав, он уехал на войну. А ровно через две недели, тоже рано утром в воскресенье, в дверь к ним постучались. Когда они открыли, то увидели военнослужащих, которые молча оставили неживое тело и ушли. Но и это было не самым страшным, потому что многие убитые оставались по ту сторону линии фронта по нескольку месяцев, а некоторых так и не смогли перезахоронить…
То, что там с обеих сторон зверствовали, – наверное, это правда. Война – она и есть война, со всеми ужасами. С нашей стороны воевали не только военные формирования, а часто случайные лица, которые бесчинствовали не только в Абхазии, но и в Тбилиси, и в других частях Грузии. Это были самовольно вооружившиеся преступники, вышедшие на волю после перестройки. Эти вооруженные бандиты и занимались разбоем. Они ограбили всю Грузию.
С противоположной стороны с нами воевали чеченцы, адыгейцы, казаки (точнее, какие-то люди, называвшие себя казаками), – казалось, их было больше, чем абхазов. Они использовали российские военные самолеты, тяжелую технику, которой у нас не было, что создавало полную уверенность, что мы воюем с Российским государством.
Мне довелось много разъезжать по горячим точкам, я исповедовал и причащал прямо во время перестрелки. Часто все это происходило под свист пуль.
– Если слышишь свист пули, значит, она уже пролетела, – успокаивали меня бойцы, – ведь звук приходит с опозданием.
Когда мы встречались с военачальниками, первое, о чем мы спрашивали, – как они обходятся с пленными, и просили дать нам возможность пообщаться с ними. Тогда многие абхазы и русские, находящиеся в плену, крестились.
В селе Команы, на месте погребения святителя Иоанна Златоуста, служил замечательный священник – иеромонах Андрей Курашвили. Он в жизни ни разу оружие в руки не брал, никого не подстрекал к агрессивным действиям, он честно служил Богу. Его расстреляли прямо у церкви, обвинив в том, что у него под алтарем склад оружия. Это были наемные солдаты, воюющие на стороне абхазцев[12].
А когда наши войска отступали из Сухуми, я участвовал в последнем переходе грузинских беженцев из Абхазии[13]. Мне пришлось со сломанной ногой в лесу жить две недели, пока за мной не приехала грузовая машина, чтобы перевезти меня через горный перевал. Было начало октября, заморозки, перевал высокий, открытая зона без единого дерева. Нужно было днем пройти перевал, чтобы на ночевку попасть в наш лагерь в лесу. Многие не доходили…
По ту сторону перевала наша Церковь организовывала столовые, раздавали гуманитарную помощь, конечно же, совершали молитвы, крестили, но люди приходили настолько угнетенными, что многие были не в себе. Помню человека, несшего с собой телевизор, больше у него ничего не было, он все оставил.
– Лучше мешок муки взял бы с собой, – говорю ему.
– Всю жизнь, – говорит, – я собирал деньги на телевизор; как я могу его оставить?
Были трогательные и грустные моменты. Шла семья, и дедушка помогал внуку нести велосипед, потому что мальчик никак не хотел его оставлять. Когда они пришли в лагерь, дед сказал внуку:
– Вот, смотри: священник. Давай мы ему оставим на хранение твой велосипед, потому что дальше нести его уже не сможем, а если все будет хорошо, мы вернемся и велосипед заберем.
И ребенок согласился.
Все это время в Тбилиси о нас не было известий, и какие-то «добрые люди» моим родителям сказали, что я погиб. Причем сказали каждому по отдельности. Отец и мать, конечно, друг другу ничего говорить не стали, жалея друг друга, они страдали поодиночке. Наверное, эти переживания впоследствии укрепили их в покорности отпустить меня в монашество. Ведь они действительно пережили смерть сына. Быть монахом – значит умереть для мира. Видимо, Господь меня готовил.
«Архиерея должны любить»
Когда я пришел в Церковь, она состояла из совсем молодых, недавно обратившихся к вере людей и из очень старых бабушек. Среднего поколения у нас не было. Из молодых, конечно, девушек было больше. И поэтому множество мужчин, не имеющих серьезных канонических препятствий, стали в дальнейшем священнослужителями.
У нас уникальная историческая ситуация: все архиереи Грузинской Церкви рукоположены нашим Патриархом; последний архиерей, который был рукоположен ранее, владыка Григорий (Церцвадзе), митрополит Алавердский, умер в начале девяностых. Конечно, это очень многое определяет. И не только в том смысле, что все мы, так или иначе, вышли из-под омофора Святейшего – мы строим церковную жизнь заново, словно в апостольские времена.
Монашество как высшая семейная дань, которую можно принести Богу, – эта мысль появилась в нашей семье еще в начале нашего церковного пути. В Грузии существует исторический пример такой семейной жертвы. Это семья святой Нины, все члены которой приняли постриг. Тем не менее когда первый раз в 1995 году Патриарх, в качестве особого исключения, предложил мне подумать о монашестве, никто из моей семьи еще не был готов к этому шагу, и я отказался. Позже созрела готовность моей супруги. Ее согласие было ключевым. Родители тоже со временем приняли это, они и так несли на себе попечение о семье, ведь мое священническое миссионерское служение и прежде не давало возможности быть дома. Через год Святейший вновь повторил предложение, и я согласился. Меня постригли в монахи и уже через несколько дней рукоположили в архиерея. Это было в 1996 году. Члены семьи присутствовали на хиротонии.
Вот я стал епископом – но у меня же есть родственники, друзья, одноклассники, соседи. И я никогда не скажу им: с сегодняшнего дня чтите меня, официально обращайтесь, целуйте руку и записывайтесь на прием в канцелярии. Многие из них, конечно, сами начинают такое почтение проявлять, но я прошу их этого не делать, потому что мы как дружили, так и должны остаться друзьями. У нас ведь и города немногочисленные; практически все друг друга знают. Все получается естественно. Конечно, среди нас есть и те, кто тяготеют к важности. Мне один наш владыка сказал: «Не обязательно, чтобы архиерея любили, главное, чтобы его слушались». Но у меня другое мнение: я считаю, что архиерея должны любить.