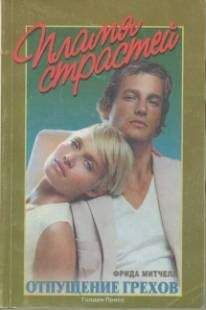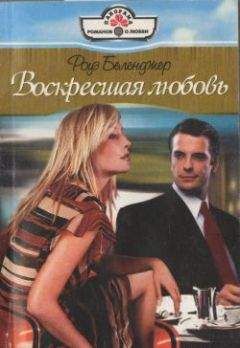Людо ван Экхаут - Это было в Дахау.
Я решил, что никогда не уподоблюсь им.
На следующий день я съел свою порцию хлеба и сахара – 225 граммов хлеба и четыре куска сахара. Церемония раздела началась сразу. Франеке встал в угол, а лимбуржец взял хлеб.
– Кому?
– Липпефелду. Потом делили сахар.
Скандал разразился из-за того, что Франеке досталось больше всех хлеба и самые крупные куски сахара.
– Ты подсмотрел, каналья. Вчера тебе тоже достался самый большой кусок.
Буханки, весившие по 450 граммов, разрезали на две части очень небрежно. Похоже, что их специально делили неровно, чтобы перессорить заключенных.
Эти ссоры возмущали меня. Пребывание в тюрьме я представлял себе совсем иначе: возвышенные беседы о свободе, о новой демократии. Непременно возвышенные. Но трудно думать о возвышенном, когда голоден.
Кажется, я нашел способ прекратить перебранку из-за хлеба. Я внес предложение:
– Почему вы решили делить вслепую? Давайте лучше установим порядок – от старшего к младшему. Каждый выбирает сам себе порцию. Сначала старший, за ним остальные. На следующий день мы перемещаемся на одно место и таким образом все попеременно будем то первыми, то вторыми, то третьими. А с сахаром поступим наоборот. Тот, кому достанется самый маленький кусок хлеба, получит самые крупные куски сахара.
– Сопляк прав,- сказал лимбуржец, и предложение приняли.
Но и такой порядок ни к чему хорошему не привел. Первый в очереди невероятно долго копался: брал два куска хлеба, сравнивал их, клал один и брал другой, а потом снова хватал первый. И, сделав наконец выбор, расстраивался из-за того, что отложенный кусок казался ему больше. И сахар выбирали не быстрее.
Возобновились шумные и противные скандалы: «Убери свои лапы!» – «Не лапай хлеб!» – «И где тебя только воспитывали, черт побери!»
Четырнадцать дней подряд они делили мой суп в обед и вечером. С каждым днем их порция понемногу уменьшалась: я съедал все больше и больше сам. А когда я впервые съел весь суп, только Наполеон одобрительно похлопал меня по плечу, остальные были разочарованы – словно они уже обрели право на мою порцию.
Меня уже два раза вызывали на допрос.
– Твой отец – крайне грубый человек,- заявил Габардин на другой день после второго представления моей оперетты.
Я молча смотрел на него. Мне казалось, что лучше молчать до тех пор, пока не начнут задавать вопросы.
– Я вчера был на спектакле. Твой старик сидел за кассой. Он отказался продавать билеты нашим солдатам, заявив, что этот спектакль только для гражданских. Не очень разумно с его стороны.
– Старика мы, наверное, тоже возьмем,- сказал Бос.
– Отец ни в чем не виноват,- сказал я угрюмо.- Мой отец совершенно не в курсе наших дел. Если бы узнал, то надрал бы мне уши.
– Я был в гражданском,- продолжал Габардин.- Малыш в роли Миссоттена великолепен. Но петь он не умеет.
– Старика мы, наверное, тоже возьмем,- повторил Бос.
Унтер-офицер за машинкой изнывал от скуки.
Еще до моего ареста один из членов нашей организации сказал, что в случае провала я должен все свалить на него. Он уверял, что узнав о провале, он немедленно скроется. Его звали Эдгар Мол. Он был директором фирмы, которая занималась продажей белого песка. Эдгар утверждал, что у него есть абсолютно надежный адрес за границей и все необходимые документы, чтобы уехать без осложнений.
В нашем городке Эдгар слыл чудаком, но во время войны показал себя смелым человеком. Я подолгу разговаривал с ним. У него была железная логика. В 1941 году он сказал мне, что англичане – об американцах тогда еще не было речи – непременно высадятся в Нормандии, если вторжение когда-либо осуществится. Однажды ему удалось вывести из многолюдного кафе английского летчика да так, что ни один из свидетелей и пикнуть не посмел.
Я разговаривал с ним и о возможном аресте, и о допросах, хотя никогда всерьез не думал, что меня могут арестовать. Молодость всегда беззаботна.
Он учил меня, как вести себя на допросах. Эдгар считал: главное – лгать что угодно, но только не молчать. Каждого можно довести до такого состояния, что он заговорит. Ведь эти молодчики не церемонятся. Лучше говорить самому, пока тебя не взяли в оборот. Когда тебя доведут до точки, можешь и проговориться. Надо выдумать легенду. Не обязательно хорошую, но, во всяком случае, убедительную. И надо успеть рассказать ее до конца, пока тебя не изобьют до беспамятства.
– У тебя будет легенда суперкласс, если ты всю вину свалишь на меня,- внушал он мне.
Разумеется, уже на первом допросе я вспомнил советы Эдгара Мола. Но я не решался воспользоваться его предложением, хотя он не раз повторял мне, что говорит все это вполне серьезно. Одно дело – теория, другое – практика. Если Эдгар Мол не скрылся, узнав о моем аресте, и выжидает, то окажется, что я выдал одного из лучших своих друзей.
На первых допросах Бос вел себя дружелюбно. Часто оставлял меня наедине с Габардином, который разговаривал со мной таким отеческим тоном, что мне хотелось плюнуть ему в физиономию. «Мы желаем тебе только добра, парень». Он произносил слово «парень» так, будто обращался к родному сыну. «Ты был слишком молод, чтобы понять серьезность своих поступков и предвидеть последствия. Но по молодости или нет, ты сделал то, что сделал, и теперь должен искупить свою вину. Ты должен помочь нам, чтобы мы могли помочь тебе. Если расскажешь все, мы сможем интернировать тебя и закрыть твое дело, не передавая его в трибунал. А с трибуналом шутки плохи. Там не посмотрят на твой возраст. Они скажут: за то, что сделал этот парень, по статье такой-то полагается смертный приговор».
– Мне очень хотелось бы вам что-то рассказать, но я ничего не знаю. Вам так хорошо все известно, что мне уже нечего добавить,- с готовностью сказал я.
Надменный Бос иной раз тоже пытался прикинуться добреньким.
– И чего вы, недоросли, занялись такими глупостями?
Я злился. Он прекрасно понимает, что в моих глазах то, что мы делали, вовсе не глупости.
– Я бельгиец, а вы немец,- ответил я. Бос не возразил. Думаю, что мой ответ понравился ему.
В другой раз – не помню уже, чем он тогда вывел меня из равновесия,- я сказал:
– Мне кажется, что вы больше уважаете нас, чем тех шутов, которые стоят на часах у входа.
И на сей раз он тоже ничего не ответил. Наверное, и эти мои слова понравились ему.
На первых порах мне не приходилось на него жаловаться: Бос задавал конкретные вопросы, я давал уклончивые ответы. Он и на самом деле вел себя, как обыкновенный полицейский, которых так карикатурно изображают в фильмах. Постепенно я стал думать, что он из тех собак, которые не кусают.