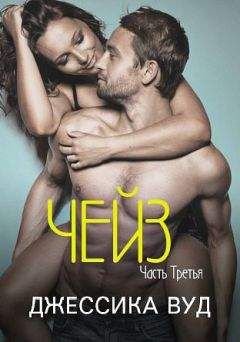Валентина Ходасевич - Портреты словами
Маме послали телеграмму, и она приедет. Я не верила и ненавидела всех за «предательство и надувательство», как я для себя определила. Вся я и белки глаз желтые. Доктор сказал, что это нормально… Неужели навсегда? Мама действительно приехала дня через четыре (пока в Москву и обратно, поезда ходили тогда медленно). Болела я при маме очень долго. Ничего вкусного. Когда разрешили в сад, я наелась там всяких зеленых фруктов – до сих пор помню кисло-горький противный вкус «райских» яблок, а такие хорошенькие, и даже бочок красный. Несмотря на ужас взрослых – обошлось, и мы вскоре уехали с мамой в Москву.
Все перемены в нашей жизни зависели от быстро растущего материального благополучия отца. Он стал одним из лучших юристов Москвы. Из поездок по судебным делам в разные города он привозил мне все больше подарков, и при прощании с ним у меня уже редко капали слезы, я начинала, очевидно, кое-что «понимать в жизни» (думала о подарках), но так и не научилась быть по-настоящему житейски мудрой, прозорливой, расчетливой и корыстной, да и фундамент для этого никто из окружающих меня в детстве не постарался заложить.
Будучи уже зрелым человеком, я начала анализировать, делать выводы по поводу пройденного жизненного пути и поняла, какие у меня были замечательные родители, как они меня мучительно любили и как я недостойно мало отвечала им. Какой нежной, всепрощающей и ласковой была моя кроткая мать. Как она меня охраняла от всяческих невзгод и пыталась смягчить крутой нрав отца, который у него проявлялся по отношению ко мне. Но я благословляю и по сей день казавшиеся мне тогда жестокими его методы искоренения дурных черт моего характера. В основном это было упрямство, а потом прибавилась лень. Чтобы стала понятна жестокость отца, я должна рассказать о трагедии его жизни. Это объяснит и то, почему отец мечтал и добился, чтобы я стала художником.
Дед мой со стороны отца, Фелициан Иванович Ходасевич, был сыном литовского эмигранта, участника восстания 1863 года. Знаю, что дед был художником. Талантом не блистал, любил живопись, но плохо в ней разбирался. У него не было чувства цвета и тона.
Попытки его зарабатывать на жизнь своей семьи трудом художника кончились полуголодным существованием, и дед, решив бросить свою профессию, открыл магазин фотографических принадлежностей в Москве.
В тяжелые времена дед заметил у старшего сына (моего отца) любовь и способности к рисованию. Он стремился пресечь это, боясь, что сын будет влачить такое же жалкое существование, как и он сам. Мой отец рассказывал, как нещадно он бывал бит, когда дед обнаруживал, что его учебники и тетради испещрены рисунками. После порки ремнем дед гнал сына по лестнице на чердак, бросал ему веревку и говорил: «Иди и там удавись – я не хочу пачкать руки!» Попав на чердак, отец падал на пол – у него было ощущение, что он летит куда-то, терял сознание… Впоследствии выяснилось, что это были припадки эпилепсии, которыми отец страдал потом всю жизнь.
Я помню деда и бабушку в их небольшой квартирке в Камергерском переулке, во дворе. Дед обычно сидел за мольбертом с муштабелем, палитрой и кистями в руках, копируя картину «Коперник» с копии, сделанной им же в Румянцевском музее. Одним словом, как говорил отец, он делал «копии с перекопий». Пятерых своих детей он уже одарил «Коперниками» и заготовлял впрок внукам. Писал он иногда и с натуры бездарную вазочку с воткнутым в нее одним или двумя цветами – любил нарциссы и веточки сирени.
Неудовлетворенное страстное желание отца быть художником привело к тому, что, когда я родилась, он задумал осуществить свою мечту во мне. Тщательно разработав план воспитания во мне художника, планомерно проводил его в жизнь. Этому он закладывал прочный фундамент: показывал и учил внимательно присматриваться к жизни, творениям искусства и природы. В моем обиходе были книги с картинками и репродукции с картин разных художников или живые игрушки дома: кошки, собаки, птицы, рыбы, белые мыши, за которыми он меня учил ухаживать и устанавливать с ними хорошие отношения. Как было радостно, когда вся эта живность отвечала мне взаимностью и я многому могла их научить!
Терпением ему пришлось запастись надолго – пока появились первые реальные результаты. Во мне не только не проявлялись способности, но и нормального, как у всех детей, желания рисовать у меня не было, и только вдруг, уже лет в десять, во мне бурно и непреодолимо, на всю жизнь, возник художник. Из-за этого в нашей семье было много счастья, но много и горя.
Был обычай 25 марта выпускать птиц на волю. На Трубной площади устраивали птичий торг. Продавали разнообразнейших птиц, даже воробьев. На площади толчея. Невероятный гомон, крик, да и взволнованные птицы болтают невесть что. Я всегда просила отца купить снегиря. Пахло талым снегом, бежали вдоль тротуаров ручейки. Светило солнце, и когда я отпускала на волю купленного снегиря, то долго видна была в небе его алая грудка. Было и жалко, и как-то восторженно. От волнения часто-часто билось и замирало сердце.
Мама тоже, пополняя мои знания, говорила: «Слышишь, какая красивая музыка?» Или: «Как красиво поют!» «Чувствуешь, как пахнет? Понюхай, вдохни! – как дивно пахнет сирень!» Или: «Как гадко пахнет – дыши ртом, а не носом». В общем, они оба помогали мне разобраться в том, что хорошо и что плохо в окружавшем меня мире.
Пожар
Мы еще жили в Салтыковском переулке. Однажды вечером мама раздевала меня, чтобы уложить спать. Это была всегда трудная процедура – я протестовала, ибо мне казалось, что, как только засну, тут-то и произойдет что-то самое интересное, удивительное и «главное» (это беспокойство осталось на всю жизнь).
На этот раз мне повезло – мама еще не успела меня раздеть, как раздался стук в дверь, топот ног по лестнице и крики: «Пожар! Пожар! Бегите на улицу!» Отца дома не было, мама взяла меня на руки, схватила мое одеяло и бросилась на лестницу, где уже было тесно от людей, узлов, вещей. Все это лавиной неслось вниз. Папа встретился нам на лестнице – он пробирался «против течения» к нашей квартире. И мама, и я, увидев его, немного успокоились. На улице я опять было струхнула от невиданного зрелища, но папа строго сказал: «Не бойся! Не важно, что страшно, а ты присмотрись, как красиво, и запомни: если красиво – то не страшно!» И я с интересом стала все разглядывать. В то время я подчинялась и верила отцу. Мои капризы выливались в основном на мою нежную мать.
Выяснилось, что горел магазин «Мюр и Мерилиз» – теперешний ЦУМ. Черное небо как бы вздыхало огнем, стены домов, лица людей то вспыхивали, то угасали. Переулок заполнился «беженцами» и их разнообразным имуществом. Некоторые уже успели вытащить кое-какую мебель в переулок и сидели на стульях. Пожар разгорался, начался ветер, и со стороны «Мюр и Мерилиза» несло теплом, дымом и гарью. Когда ветер усилился, то в небо взлетели какие-то ярко горящие полотнища, как алые знамена, – это горели целые кипы материи, разворачиваясь от порывов ветра. Некоторые куски падали на землю поблизости от нас, и люди шарахались от них, а какие-то смельчаки бежали навстречу, надеясь, что авось не весь материал обгорел. Отец строго наказал нам, чтобы мы стояли на месте, а сам пошел по Петровке – на разведку. Вернувшись, сказал, что приехали пожарные части, пожар заливают, опасности уже нет и можно идти домой. Долго я не могла уснуть – от «красоты», вероятно, но, конечно, и от страха.