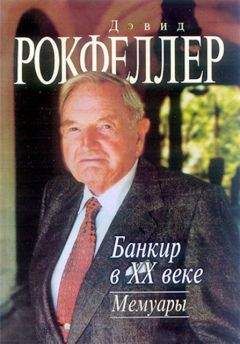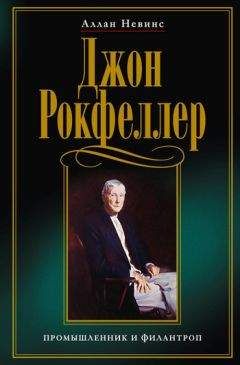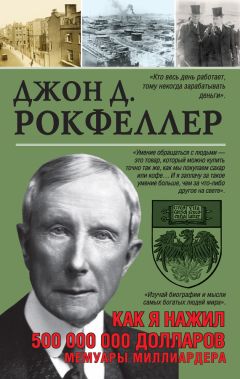Владимир Войнович - Дело № 34840
Мое письмо произвело на нашу так называемую общественность заметное впечатление. Жанр открытых писем, на короткое время вошедший в моду, тут же стал раздражать своим почти во всех случаях гневным, патетическим, а иногда и истерическим тоном.
Я этот жанр оживил, внеся в него насмешку.
Письмо без конца передавалось «голосами» и растекалось по незримым и необозримым просторам Самиздата.
Все близкие мне люди сразу, естественно, поняли, что этим письмом я бросаю вызов властям и делаю шаг, последствия которого непредсказуемы. «Володька, – сказал мне один из моих друзей, – они тебя за это убьют».
Ира готовилась к выписке из больницы, все еще ничего не зная о моем безумном поступке.
В это время уезжал в Америку и прощался с друзьями навсегда Наум (Эмма) Коржавин (Мандель). Ира позвонила ему, чтобы проститься хотя бы по телефону. «Ирочка! – закричал он. – Не волнуйся и, самое главное, не слушай радио». Ире его совет показался смешным: надо совсем не представлять себе настроения роженицы и условий советского родильного дома, чтобы предположить там, в палате на несколько человек, слушание радио, да еще «враждебного», на коротких волнах, с воем глушилок, из которых человеческий голос можно вычленить, только бегая из угла в угол, прикладывая приемник к батарее отопления или к кровати, переворачивая его и вообще производя много нелепых движений, достойных внимания психиатра.
Письмо свою главную роль сыграло: из Союза писателей я вылетел быстро и с треском, а публикация «Чонкина» и теперешний вызов стали дальнейшими следствиями того же поступка.
С тех пор прошло полтора года, и вот я в КГБ. И мое письмо Панкину лежит на столе в качестве то ли вещественного доказательства, то ли орудия преступления, и острие карандашика медленно продвигается над строкой.
– Вот здесь, – говорит Петров, – вы предлагаете передать в ведение ВААП Лефортовскую или Бутырскую тюрьму со штатом охранников и овчарок. Как это можно понять?
Объясняю: понять это можно так, что это сатира, а где сатира, там и гротеск. А впрочем, и не совсем гротеск, сама наша действительность гротескова. Если это гротеск, то его автор не я, а Панкин. (Вообще-то, конечно, не только Панкин, а Маркс, Ленин, Сталин и прочие, но в конце цепи и Панкин тоже.) В своем интервью Панкин прямо намекает, что у нас есть государственная монополия на внешнюю торговлю. Кто отдает свои рукописи иностранному издателю, тот нарушает монополию, того ожидают некоторые неприятности в виде именно тюрьмы, а не что другое.
Кстати сказать, ответа на свое письмо от Панкина я не получил, но реакция на него была. Я в письме усомнился, может ли общественная организация пользоваться государственной монополией, и их, как я слышал, соображение неожиданно смутило, они со всеми своими юристами сами до него не додумались, а потом на каком-то совещании было сказано, что да, мол, этот подлец, к сожалению, прав, монополия государственная, организация общественная. Они, конечно, в любую минуту (своя рука – владыка) могли стать государственным агентством, но тогда их не признали бы другие участники конвенции.
Засушил сухари
Поговорили еще о ВААПе, перешли к моим писаниям. Оказывается, новые мои знакомцы давно и с пристальным интересом следят за всем, что я пишу.
Петров вспомнил, как в пьесе «Два товарища» бабушка смешно говорит вместо «петух» «хетуп», но наивысшим моим достижением он считает, разумеется, «Чонкина». Он, конечно, не специалист, а всего лишь средний читатель. Но книга ему понравилась. Очень. Интересуется продолжением.
– Третью часть пишете?
– Третью уже написал.
На самом деле написал, да не совсем. Но им говорю так, чтобы не искали и не пытались остановить. Поздно, мол. Хотя, увы, на самом деле не поздно. Рукопись не окончена и по свойственной автору беспечности существует всего лишь в одном экземпляре у него на столе.
– И там, в третьей части, – смеется Петров, – тоже про органы?
– Нет, там про другое.
– Ну, мне вообще-то все равно. Я по профессии конструктор…
Все кагэбэшники, которых мне приходилось видеть или о которых я слышал, были людьми скромных, но благородных профессий: инженерами, конструкторами, летчиками, кем угодно, только не собственно кагэбэшниками. Партия их временно кинула на трудный участок, вот и приходится тут заниматься черт знает чем, а душа рвется назад, к кульману и штурвалу.
– …Я по профессии конструктор. Но книги читать люблю. И как читатель скажу: жалко. Жалко, что ваша книга вышла на Западе.
– Как будто она могла выйти здесь.
– А что, лет восемнадцать – двадцать тому назад могла бы. Я мысленно отнял от семидесяти пяти восемнадцать и двадцать, но ни пятьдесят седьмой, ни пятьдесят пятый годы не показались мне подходящими для печатания «Чонкина» (для написания тем более).
– Так вот о чем я вас хотел спросить. Вы издаетесь на Западе. У вас что, совсем нет никакого желания печататься здесь?
Я пожимаю плечами:
– Печатайте, не откажусь.
– Ну мы, правда, издательствами не заведуем…
– Вы всем заведуете.
Оба смеются. Я слишком преувеличиваю их возможности. Но в чем-то, конечно, могут помочь.
Захаров опять лезет за моей сигаретой и спрашивает, можно ли. Я отвечаю «можно» и пододвигаю сигареты к нему.
– Но, – говорит Петров, – вот ваше письмо секретариату Союза писателей…
…Тут пришла пора вспомнить о втором письме, которому тоже, несмотря на прежние публикации, самое место здесь. Тем более что оно в каком-то смысле является прямым продолжением первого. После письма Панкину последовала процедура (довольно громоздкая) теперь уже окончательного моего исключения из Союза писателей. Сначала разговор с вышеупомянутым Стрехниным, потом заседание бюро объединения прозаиков с активом (председатель Георгий Радов) и, наконец, назначенное на 20 февраля закрытое заседание секретариата Московского отделения СП, на которое и было вынесено мое «персональное дело» [1].
20 февраля за полчаса до секретариатского заседания адресату было доставлено это мое письмо.
В СЕКРЕТАРИАТ МО СП РСФСРЯ не приду на ваше заседание, потому что оно будет проходить при закрытых дверях, втайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участия не желаю.
Нам не о чем говорить, не о чем спорить, потому что я выражаю свое мнение, а вы – какое прикажут.
Секретариат в нынешнем его составе не является демократически избранным органом, а навязан Союзу писателей посторонними организациями. Ни весь секретариат в целом, ни каждый из его членов в отдельности не могут быть для меня авторитетами ни в творческом, ни тем более в нравственном отношении.