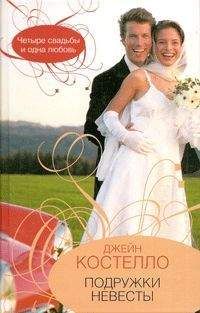Олег Табаков - Моя настоящая жизнь
Вместе с другими голодными детьми я охотился на дроф. Дрофа — такой полустраус-полукурица с противным голосом. Вульгарное название этой большой и степенной птицы — дудак. Вечером дрофы садились на соленое озеро Эльтон и рапились за ночь: соленая вода пропитывала их крылья и перья, а к утру присыхала так, что птицы не могли взлететь. Вот в этот момент надо было специально подобранной дубиной трахнуть дудака по голове и убить. Если же ты не убивал его сразу, то потом уже он гнался за тобой, норовя вырвать из твоих ног и ягодичных мышц достаточные куски мяса. Что со мной однажды и произошло.
Вылавливание сусликов было трудоемкой работой, на которой я так и не разбогател. Их шкурки сдавали за деньги, но для того чтобы извлечь одного суслика, надо было вылить туда, где они прятались, воды ведра три, а в засушливом Эльтоне вода была весьма дорогой.
Наша мальчишечья жизнь была полна опасных приключений. Взрывы боеприпасов, попадавших в детские руки, покалечили многих моих дружков. Из разбомбленных составов мы добывали порох, ракетницы, а еще американские «подарки» — горьковатые витаминизированные конфеты и шоколад в круглых картонных коробках. Потом делали заначку и складывали ее в оцинкованные ящики из-под патронов. Каждый из нас закопал по такому ящику, но когда в сорок девятом году я наведался за своим, оказалось, что кто-то откопал мой ящик раньше меня…
Неизгладимое впечатление детства — ощущение потрясения и восторга от бескрайней эльтонской тюльпанной степи. Белые, красные, желтые, лиловые тюльпаны затопляли собой пространство до горизонта. Подобным детским потрясением для моего четырехлетнего сына Павла стал океан. Вода как стихия. Павлик пытался вычерпать океан на берег и перенести весь песок в воду. В доме, где мы жили в Бостоне, был бассейн. Я видел, как он был ошарашен от возможности прыгать в воду и не боялся, совершенно сатанея от этого. И еще одна деталь из моего детства. Тюльпаны имели обычай предваряться подснежниками, и к моменту рождения тюльпанов луковицы от подснежников — «бузулуки» — становились сладкими. Мы их выкапывали и ели.
Последней достопримечательностью военного Эльтона был золотарь Идальян, разъезжавший по городу на бочке с черпаком. Он был явно из Средней Азии и очень тосковал, оттого что женщины сторонились его из-за вони. В доступных выражениях он говорил нам: «Вот такой судба». Он же пел песню: «Куда, малчик, ты пошел, ты малэнъкий, я болшой»…
Фотографий того времени нет.
Там, в Эльтоне, восьмилетним я пошел в школу, где меня постигла первая влюбленность во время чтения немецкой сказки «Розочка и Беляночка» с Марусей Кантемировой. Мы с ней сидели в первом и втором классе на одной парте. Там же, в Эльтоне, в одной из больничных палат, произошло мое посвящение в артисты — я участвовал в постановке довольно грубого военного скетча. У меня там была всего одна фраза: «Папа, подари мне пистолет!», которую я и канючил на всевозможные лады, в чем весьма и преуспел, судя по аплодисментам. Если говорить серьезно, этот «сценический» дебют к последующей артистической карьере не имел никакого отношения. Для раненых я был не начинающим артистом, а малым существом, ребенком, очень напоминавшим им оставленных дома собственных детей. Само мое присутствие приводило их в радостное возбуждение, независимо от качества «постановки» и моей «игры». Вообще, выступления перед ранеными были в порядке вещей. Это сейчас об этом говорят как о чем-то экзотическом. Радио там не было, и я часто пел: «В боевом, в боевом лазарете, где дежурили доктор с сестрой… на рассвете умирает от раны герой». Или еще:
Жил в Ростове Витя Черевичкин,
В школе он прекрасно успевал
И на волю утром, как обычно,
Голубей любимых выпускал.
Голуби, мои вы милые,
Что же не летите больше ввысь?
Голуби, вы сизокрылые,
В небо голубое унеслись…
За выступления перед ранеными я получал либо компот, либо рисовую кашу с фруктами. Это была еда «избранных», то есть тяжелых больных.
Сейчас мне кажется, что первым, хоть и не осознанным актерским опытом, стало совсем другое событие.
Баба Оля
В 1945 году умерла баба Оля. Наверное, самый дорогой мне человек. Она меня, полуживого, паршивого, всего в диатезе, приняла из роддома и выходила. Она была моей главной заступницей. Если вдруг отец — очень редко — поднимал на меня руку, баба Оля выводила меня за «линию огня».
Бабушка молилась, не таясь, у себя за загородкой, хотя иконы в комнате и не было. «Красный угол» заменял ей икону. Видимо, и меня она в детстве крестила — точно не знаю. В сознательном возрасте я крестился сам.
Никакие «молнии» с оплаченным ответом о смерти бабы Оли не дошли тогда в Эльтон. Только треугольничек солдатский, посланный бабой Аней, дошел. Мама, я и Мирра отправились домой на похороны на перекладных, на попутках.
Детская психика жесткая по своей сути. Ребенок не понимает, что такое смерть, хоть смерть и глядела тогда отовсюду. Вот я и испытывал незамысловатое детское счастье, что еду наконец из деревенского скучного Эльтона в мой любимый, огромный Саратов.
Мы сильно опаздывали. В суете и спешке даже взрослый человек отвлекается от горя. Успели к выносу тела из дому, и меня с ходу усадили на полуторку, возле гроба. Все вокруг причитали, какой я несчастный, и я понимал, что надо как-то выражать скорбь, супить брови, морщить лицо… Но заплакать тогда я так и не смог. Сколько раз, много позже, уже будучи целиком в профессии, я оказывался в противоположной ситуации: реветь хочется белугой, а надо прыгать кузнечиком. И ведь прыгаешь, улыбаешься, давишь свою боль…
Смерть бабушки Оли — моя первая жизненная потеря. Первый актерский опыт в смысле силы эмоционального потрясения. Несмотря на все испытания военной жизни, на понимание, что у моих родителей, видимо, не все ладно, такого опыта негативных эмоций, которые обычно не касаются незамутненной детской души, еще не было. Первое горе и осознавалось мною не сразу. С годами.
Только живые ощущения составляют базис актерской профессии. Человеческие чувства — единственное золотое содержание нашего довольно жестокого и эгоцентрического ремесла. Если артист обладает багажом пережитых им чувств, он понимает, про что играет, и, значит, у него есть шанс для дальнейшего развития, для движения и самосовершенствования. Дальше он уже сам может нафантазировать. Человеку с железной нервной системой, способному жить лишь на одной частоте и на одних оборотах, в нашем цеху делать нечего.
У меня есть одно почти патологическое качество — до сверхреальной наглядности представлять себе всяческие беды и напасти, которые могут приключиться с моими близкими и дорогими. Об этой опасной игре воображения как-то писал Михаил Чехов. Он сорвался со спектакля, внезапно во всех подробностях представив себе несчастный случай со своей матерью. Тут стоит только начать — и потом уже невозможно остановиться. Может быть, от этого и умер Женя Евстигнеев: как представил себе во всех деталях процесс операции и все возможные ее последствия. Врачи не должны говорить такие вещи актерам. Знание рождает печаль… Это — истина для меня.