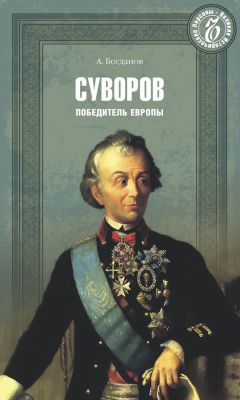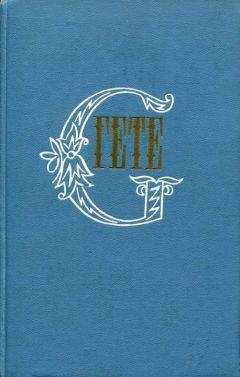Олег Рогозовский - Записки ящикового еврея. Книга первая: Из Ленинграда до Ленинграда
Как и при всякой перемене правил, евреи приспособились первыми. И те, кто раньше мечтал стать купцами, стали нэпманами. Лозунг Бухарина[32] «обогащайтесь», адресованный крестьянам, они приняли близко к сердцу. Напомню, что в это время быть евреем стало выгодно (угнетенная нация, значит, союзник пролетариата). Мать писателя Юрия Нагибина, столбовая дворянка, спасая вынашиваемого сына и себя, вышла замуж, по совету обреченного любимого, за их общего друга – еврея[33]. Отец Юрия, дворянин, готовил в это время тамбовский мятеж. Нагибин долго считал себя евреем и вел себя из-за раздвоенности личности как русский пьяница, хулиган и бабник.
За антисемитизм наказывали, в том числе и в уголовном порядке[34].
Характерным являлся и следующий случай. Братья Шифрины[35] (ставшие известными учеными) поступили в ленинградские институты, хорошо сдав все экзамены. Их старший брат учился мало (и неохотно), но все экзамены, кроме русского, сдал. Резолюция академика Орбели[36]: «Принять, как представителя угнетенной нации, не имевшего возможности получить правильное образование».
Перед войной лафа для евреев кончилась. Нужно было дружить с Гитлером, да и Сталин, наконец, осознал, что может не скрывать своей юдофобии. Во время войны «они» (евреи), конечно, были полезны, но уже с конца
42-го года включились мощные антисемитские фильтры. Сказалось это и в награждениях, и в чистке руководящих работников культуры (об этом написал кинорежиссер Михаил Ромм[37] в «Устных рассказах»), а потом, с 43-го года и в промышленности, даже оборонной, когда директоров-евреев, ставших уже Героями и генералами, стали смещать со своих постов. О том, что награжденных на войне евреев было гораздо меньше, чем поданых на награждения рапортов, широко известно. И чем выше были ордена, тем усерднее их фамилии вычеркивали.
Вернемся в нэповский Киев. Дед был успешным предпринимателем, но, видимо, знал и золотое правило бизнеса: главное – это вовремя смыться. Он освободился от дома на Шулявке, извоза, приобретенного к тому времени большого дома на Батыевой Горе. Купил квартиру на Саксаганского. И стал работать в знаменитой фирме ТЭЖЭ[38]. Надеялся, что избежит многих разочарований, постигших тех, кто верил, что НЭП – это надолго и всерьез.
Большого богатства дед не нажил ни до революции, ни во время НЭПа. Судя по всему, он особенно к нему и не стремился. К достатку – да, семья и родственники, которым он всегда помогал, должны жить хорошо. Зато деда все уважали; он являлся третейским судьей. Евреи, как известно, избегали решать гражданские дела в суде. Третейский суд был очень важным органом регулирования их жизни. Избирались в судьи достойные люди, которым доверялись не только состояния, но иногда и жизни.
Так как к состоятельным людям или к тем, кого подозревали в этом, интерес органов и не только финансовых, время от времени возобновлялся с новой силой, то и в квартиру на Саксаганского нередко захаживали проверяющие. Делалось это, как правило, по наводке «благожелателей», добрых знакомых или обиженных родственников. В одну из таких проверок оказалось, что все вроде бы в порядке, в квартире произведено уплотнение, ценных вещей и драгоценностей не обнаружено. Баба Вера держалась уверенно и независимо. Проверяющие уже уходили, когда в дверях возник Абрам Айзенберг. Увидев выходящих, он обеспокоился: «тетя Вера, они тебе ничего не сделали?»
«Ах, это оказывается ваша тетя? А Вы – жилец Айзенберг? Пройдемте в вашу комнату, а то она была заперта». Прошли, проверили. Ничего не нашли. Заметили, что студент не отходит от рояля. Его отодвинули, рояль открыли, проверили – пусто. Потом со знанием дела постучали по ножкам рояля и стали их отвинчивать… Там оказались золотые николаевские десятки. Много. Как раз незадолго до этого деду удалось продать дом на Батыевой горе.
Несмотря на отказ от отца для поступления в институт и членство в комсомоле, Айзенберг вряд ли имел какой-то умысел. Но и баба Вера, и тетя Рая и даже Рена, которая знала эту историю только в пересказе, не простили ее Абраму. Никогда. Дело в том, что он всегда называл бабушку Верой или даже Веркой. А тут назвал ее тетей…
Не знаю точно, когда, но дед и баба Вера арестовывались, из них выколачивали признания о наличии скрываемых ценностей. Тут можно вспомнить «успешную» работу братьев Броневых, один из которых был папой, а другой дядей известного артиста. Дядя лично выбивал из одного нашего дальнего родственника сдачу ценностей – и выбил, но потом, насколько я понимаю, сквозь пальцы смотрел на дальнейшее (уже незаконное) их наращивание. Изымаемое у нэпманов было нажито по закону, а изымалось – идя навстречу пожеланиям трудящихся (на самом деле не привыкших трудиться большевиков – вспомните сцену ухода с работы кавалериста, которого играл Сергей Шакуров в фильме Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих»). Успеху дяди Броневого способствовало его знакомство с еврейской средой, хорошими информаторами и некоей зловещей обаятельностью, которую потом артист Броневой отобразил в образе Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны» – для него прототипом Мюллера в поведенческом аспекте был дядя.
Пытать при допросах только учились. Пугали. Били. Кормили селедкой и не давали пить. Подогревали в жару. Сажали на ведро[39].
Дед сломался на допросе, когда мимо него провели бабушку в соседнюю комнату и оттуда раздался женский крик. Дед признался. Его выпустили, а бабу Веру даже не арестовывали. Кричала другая женщина. Бесстрашная бабушка его потом ругала – «да что они могли со мной сделать? Они и так не знали, куда меня деть – я им спуску не давала – они же все байстрюки и не имеют понятия как себя вести!».
После относительно благополучных времен остались дед с бабой Верой без денег, но в своей квартире, от которой после уплотнений осталось три, а потом и две комнаты. Тетя Рая жила в «кабинете», который своей роли никогда не исполнял. Сначала с сестрой Боней, затем с мужем, потом с дочкой Реной. Рая была любимицей деда и красавицей в левантийском стиле. Впервые я прочитал, что под этим подразумевается, в дореволюционной книге «Мужчина и женщина» – большие глаза, большой нос, большой вес и приводилось фото. Тетя Рая была красивее. Она тогда была тоненькой, у нее были прекрасные густые волосы, а нос не выделялся. Моя жена Нина, увидевшая тетю Раю, когда той было 55 лет, считала ее красивой без дополнительных прилагательных.
Тетя Рая около 1928 г.
Красивой женщине из состоятельной семьи напрягаться для жизненного успеха (под которым все еще понималось удачное замужество) нужно меньше, особенно, когда науки не вдохновляют. Говорят, что она некоторое время училась в Фундуклеевской гимназии, куда ее возили в семейном кабриолете. Вряд ли это могло продолжаться долго. Приготовительный класс посещали с девяти лет, а в декабре 1918, с уходом немцев, в Киев вошли петлюровцы, и такие поездки стали небезопасными.
После всех послереволюционных пертурбаций положение семьи с окончанием НЭПа переменилось, но перестроиться тетя Рая не успела. Она пользовалась успехом у молодых мужчин, не очень занятых производительной деятельностью. Одним из них был Даниил Львович Шинкарь (Шенкер). Он был из известной разветвленной семьи, которая имела возможность до революции обучать своих детей в Берлине профессиям врачей и адвокатов, а в Вене музыке и искусствам. Они могли жить заграницей подолгу.
Даниил ни в Берлине, ни в Вене не учился, но в Киеве вел жизнь вольготную. Тимофеев-Ресовский[40] вспоминает, что Киев до революции (думаю, и во время НЭПа, О.Р.) больше, чем другие города России напоминал европейский город – с выставленными на улицу столиками кафе, каштанами, хорошо одетыми и красивыми барышнями, всей легкой атмосферой – идеология оставалась в столице (Харькове).
Даниил был щеголем, на одиннадцать лет старше девятнадцатилетней Раи. Она в него влюбилась. Семья восторгов от будущего зятя не испытывала. Прежде всего, потому, что Рая уже была невестой его дяди по отцу, не намного старше Даниила, но успевшего получить медицинское образование в Берлине, успешного врача, принятого в семье. А Даниил после гимназии занялся установлением Советской власти где-то в Средней Азии и в Крыму. Не прибавила ему популярности и «сдача» родственников, выезжавших в Вену с богатым багажом, имевшая тяжелые для них последствия. Через много лет, когда оказался властям не нужен, вернулся в Киев. Его устроили на строительство знаменитого Дома НКВД (позже Совета Министров), спроектированного московским архитектором И.А.Фоминым.
Совет Министров собирались построить напротив здания ЦК (теперь МИДа), симметрично ему, для этого даже взорвали Златоверхий Михайловский собор. Потом собирались снести «Присутственные места»[41], под вопросом был и снос Софии. Ревнителя русской старины Грабаря заставили согласовать этот проект. Но потом стройка остановилась – не хватало времени и денег, да и жилье для переезжавших в новую столицу из Харькова партийных чиновников нужно было срочно строить (кварталы серых домов на Институтской с милиционерами в подъездах).