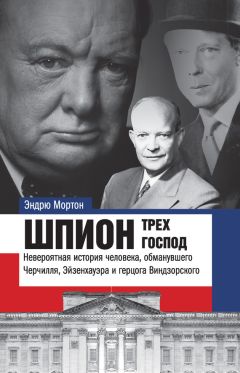Геннадий Красухин - Тем более что жизнь короткая такая…
У отца крестьянская жилка. Он выносливей меня, четырнадцатилетнего. К тому же он мастер на все руки. Не помню, сколько ям он вырыл под саженцы. Но помню, что сколько-то вырыл точно. Не всё сделали за него наёмники. Кроме того, он соорудил грядки, куда посадил чеснок.
Он мастер на все руки. Весной этого года сам без чьей-либо помощи поставил сарай для инструмента. Втащил туда старую тахту, которую ему отдал кто-то из соседей. И вскопал много грядок, посадив клубнику, огурцы, лук, зелень. Посадил кустарники крыжовника, смородины, малины.
Копать я ему не помогаю. Как и обещал, ношу воду для полива. Летом отец приезжает вечером в субботу после работы (нерабочими субботы стали значительно позже). Ночует в сарае, работает всё воскресенье и уезжает. Договорились, что раз я живу по той же дороге, то хотя бы два раза в неделю я должен приезжать, поливать огород.
Я соглашаюсь. Мать даёт мне с собой еды, и мы с Нинкой (о ней, конечно, никто не знает) уезжаем.
На целинных грядках клубника была очень крупной. Её было много, и Нинка ела её вволю. Я ни земляники, ни клубники не ем с детства. Но смородину ем. И маленькие огурчики тоже. Я делюсь с Нинкой материнской едой. Поливаю огород. Устаю – мы с Нинкой залезаем в сарайчик и наслаждаемся друг другом.
Она неначитанна. Точнее, мало чего читала. «Я дворовая! – сказала мне. – Прихожу из школы, поем – и во двор к подругам». «И к друзьям!» – улыбаюсь я. «Конечно, – соглашается Нинка, – у нас во дворе классные ребята!»
В Москве она жила в одном из Верхних Михайловских проездов. «Михайловские» враждовали с «рощинскими», но по мне ничем лучше их не были. Та же шпана.
Идиллия наша прервалась перед самым отъездом с дачи. Мы лежали с ней в кустах в катуаровском лесу. Она говорила о том, что будет мне звонить в Москве, будем встречаться, что где встречаться – для неё не проблема и вдруг: «Как ты относишься к ребятам-разбойникам?» «К каким разбойникам?» – не понял я. «Которые на дело ходят», – объяснила она. «Ты про воров? – спросил я, холодея, – они тебе нравятся?» «Смелые очень», – ответила она с вызовом.
Она и в Москве продолжала мне звонить. Но встречаться с ней я отказался наотрез.
И всё-таки позже, года через три, когда я шёл с приятелями радиомонтажниками по Малому Калужскому переулку, я её увидел. Спутник Нинки был значительно старше её и выглядел устрашающе, словно только что вышел из тюрьмы. Я вовремя отвёл глаза, чтобы не встретиться с ней взглядом…
2
В Москву я приехал, чтобы уже во второй раз идти в новую школу.
Весь восьмой класс я в ней проучился, жалея о школе старой. Но ничего не поделаешь: с 1954 года ввели совместное обучение мальчиков и девочек, и нас с Мариком Быховским ещё с несколькими одноклассниками перевели в бывшую женскую 653-ю школу, которая стояла на Шаболовке рядом с Шуховской башней и была ближе к дому, чем прежняя 545-я.
Разницу мы почувствовали очень быстро. Мы ведь в прежней школе обгоняли сверстников, а теперь словно опустились на класс ниже. Директором 653-й был учитель физкультуры Аверьянов. Дядька он был добродушный, но очень разозлился, когда мы, несколько бывших учеников 545-й школы, написали ему письмо с жалобой на учительницу математики Нину Васильевну: нам казалось, что она недостаточно квалифицирована.
Аверьянов вызвал меня, Марика Быховского, Сашу Комарова, Валеру Емелина, подписавших письмо. В его кабинете сидели Марья Георгиевна, наш классный руководитель, и Нина Васильевна. Нина Васильевна смотрела на нас скорбно. «Что вы хотите?» – спросил Аверьянов. «Об этом мы Вам написали», – сказал я за всех. «Чем мы-то перед вами виноваты? – наступал Аверьянов. – Нина Васильевна – педагог опытный, не первый год в школе работает. До сих пор на неё жалоб не поступало».
– Дай кто жалуется? – взвилась Марья Георгиевна. – Яйца курицу учат. Эти из 545-й вообразили себя белой костью.
Марья Георгиевна была учительницей географии. В классе она ходила, опираясь то на палку, то на указку. Она прихрамывала. И, наверное, была психически неуравновешенным человеком. Поначалу она ошеломила всех, когда, вступив с кем-то в дискуссию, повышая и повышая голос, вдруг истошно закричала: «Молчать!» – и со всего размаха ударила палкой по столу. А когда ещё и ещё раз повторилась эта сцена, мы оживились. Устанавливали очередь желающих провоцировать Марью Георгиевну. Едва начинался урок географии или классное собрание, как очередник с самым невинным видом задавал Марье Георгиевне глупейшие вопросы, от которых она быстро раскалялась: «Молчать!» – и палка с грохотом обрушивалась на стол. Мы покатывались со смеху, от чего она сатанела ещё больше, орала и била, била по несчастному столу.
Особенно смешно было на уроке географии, когда она держала в руках указку. Указка ломалась, и Марье Георгиевне приходилось водить по карте довольно толстым, обутым в резину концом своей палки. «Где? где?» – вскакивали мы с мест, всем видом показывая, что хотим абсолютной точности, какую, конечно, не могла дать резина, которая закрывала собой внушительный кружок географического пространства. Это Марью Георгиевну снова выводило из себя. «Молчать!» – орала она, обрушивая на стол палку.
– Ну не все из 545-й, – возразил тогда Марье Георгиевне Аверьянов. – Дубасов, например, не подписал письма.
Нина Васильевна кисло улыбалась. Женя Дубасов звёзд с неба не хватал. В 545-й он еле переползал из класса в класс. «Ich bin… Ich bin…» – лепетал он однажды на уроке немецкого, пытаясь составить какую-то простейшую фразу. На что потерявший терпение учитель Михал Михалыч отозвался: «Ихбина, дубина, полено, бревно! Немецкий язык надоел мне давно». Класс взорвался от хохота. Михал Михалыч наверняка не связывал «дубину» в этом стишке с фамилией Женьки. Но с тех пор к Дубасову приклеилась кличка, похожая на дразнилку: «Ихбина-дубина». Впрочем, в первоначальном виде она продержалась недолго. Её усекли, называя Дубасова «Ихбиной».
– Белой костью они себя не воображают, – сказала Нина Васильевна. – Но ребята действительно очень сильные в математике.
– Вот и взяли бы шефство над отстающими, – предложил Аверьянов. – Письма писать каждый может, а вот другим помочь.
Ах, лукавил, лукавил директор. Теперь-то издалека мне это особенно ясно. Далеко не каждый посмел бы тогда написать письмо, подобное нашему. Да и мы посмели, потому что не понимали, что это опасно. Но и опасность уже не была такой страшной, как ещё два года назад.
В воздухе явно посвежело. Имя Сталина редко теперь упоминалось на страницах газет. Писали об управляющем страной «коллективном руководстве».
Но первое же после Сталина снижение цен в народе назвали «маленковским». Оно оказалось невероятно щедрым: цены на фрукты понижены на 50 %! Но и невероятно непродуманным: фрукты мигом исчезли с магазинных прилавков.
Маленкову народ обязан и своим коллективным садоводством. Первый садоводческий участок – по 8 соток, как у нас, появился в той же Зосимовой Пустыни. Он принадлежал сотрудникам министерства электростанций – «электрикам», как мы их называли (любопытно, что, сняв Маленкова с поста Председателя Совета Министров, его назначили именно министром электростанций). Через полгода рядом с ними получили участки и мы.
Наконец, само по себе совместное обучение, как это принято во всём мире. Оно ведь у нас тоже появилось только после смерти Сталина.
Аверьянов, конечно, знал, как поступали при Сталине с теми, кто написал письмо, подобное нашему. Его пересылали в органы, которые начинали дело о вражеском коллективе.
Но Сталина уже не было, и что с нами делать, Аверьянов не знал. Тем более что не так давно арестовали и расстреляли Берию и его могущественных сотрудников. Проще было не выносить сор из избы.
А наши новые одноклассницы смотрели на нас, как на героев: они бы на такое не решились. Хотя не убеждён, что они поняли, в чём смысл нашего бунта: Нина Васильевна их вполне устраивала.
Эта новинка – мальчики и девочки вместе – вызвала у нас острый интерес лишь поначалу. Привыкли друг к другу быстро. Хотя на партах сидели раздельно: мальчик с мальчиком, девочка с девочкой.
Бросалось в глаза, что мальчишки способнее девчонок, но менее усидчивы. В первые месяцы казалось, что мальчишки живее, но потом оказалось, что девочки с непривычки просто стеснялись проявлять себя. А перестали стесняться и вели себя не хуже мальчишек: так же бегали на переменах по партам, так же бросались друг в друга тряпкой.
Но в худших учениках больше было девчонок. Схватывать материал на лету умели немногие из них.
Хотя забегая вперёд, скажу, что мальчишки в классе окончили школу без медалей, а медаль (серебряную) получили именно девочки: Маринка Браславская и Надька Монахова.
Правда, всерьёз мы приняли только медаль Маринки: она действительно была способной, а Надька – отчаянной зубрилой. Когда она отвечала у доски, многие улыбались, следя за её словами по учебнику: они либо совпадали с ним, либо не очень сильно от него отличались.