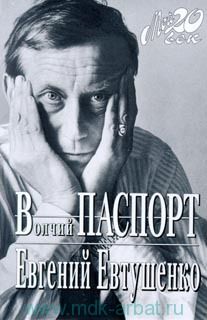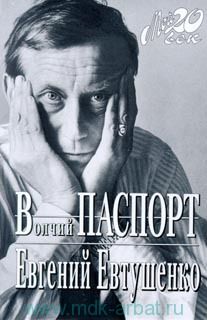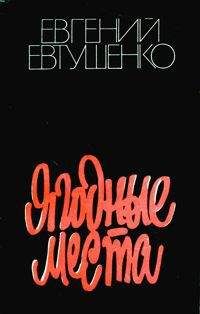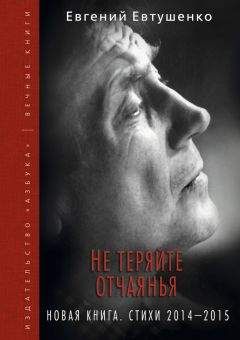Евгений Евтушенко - Волчий паспорт
– На память, – сказал он.
Папиросы были душистые, асмоловские, но, казалось, горели слишком быстро. Снежинки, падая на жемчужные столбики стремительно нараставшего пепла, чуть шипели. Колчак и прапорщик обнялись.
– Мы готовы, – сказал адмирал красноармейцам…
Начальник станции никогда не видел, как это на самом деле происходило. Может быть, это была только легенда, а все случилось гораздо грязней и проще.
– И прах наш с строгостью судьи и гражданина… – подумал вслух начальник станции.
– Потомок оскорбит презрительным стихом… – продолжил Александр Рудольфович.
– Насмешкой горькою обманутого сына… Это уж не вашей ли насмешкой надо мной, Александр Рудольфович? – криво усмехнулся начальник станции. – А «над промотавшимся отцом» – это мне не в бровь, а в глаз. Между прочим, когда я тоже пописывал, у меня был сатирический опус «О вкусной и здоровой теще», которая была женщиной страстной во всех своих увлечениях, в том числе и в картах. Там, между прочим, были такие строчки:
«Свой проигрыш назад у тещи взять?
Я лучше застрелюсь!» – воскликнул зять.
Так что не могу я принять свой проигрыш вам из ваших же рук, Александр Рудольфович. Дело не в том, что вы меня будете презирать, а в том, что я сам себя после этого запрезираю. Вот так-то… Идите-ка к вашей жене. Может, у вас уже сын родился…
– Почему именно сын, а не дочь?
– Ну, вам же хочется сына, значит сын и будет… Вы же везучий… Пусть и ваш сын будет такой же… Кому-то же должно везти в нашей невезучей России. Да вы не глядите на меня такими сострадающими некрасовскими глазами. Вот видите – я уже улыбаюсь…
Когда Александр Рудольфович с рюкзаком, набитым выигранными деньгами, пересекал вокзальную площадь, навстречу ему от родильного дома, радостно размахивая руками, выбежала пожилая нянечка, теряя на ходу стоптанные шлепанцы:
– Ляксандр Рудович, Ляксандр Рудович, – сын!
И одновременно с криком новорожденного, как всегда в шесть утра, раздался мощный деповский гудок. Александр Рудольфович, к счастью для него, не заметил, что ревом этого гудка утро последнего года первой пятилетки заглушило выстрел в кабинете начальника станции, застрелившегося из старого смит-вессона. Кто знает, может, этот пистолет был подарком адмирала Колчака…
Крик ребенка, гудок, выстрел – так началась моя жизнь.
Это самоубийство от Александра Рудольфовича пытались скрыть, но станция была слишком маленькая…
…Отец рассказал мне эту историю, когда мне было тоже двадцать два года и я тоже ночи напролет играл в карты на деньги – в очко, покер, преферанс, кинг, даже в «веришь-не-веришь», и мне тоже чертовски везло.
– Если играешь в карты с плохими людьми, их не жалко обыгрывать, – сказал отец. – Но от постоянного общения с подлецами становишься таким же, как они. С друзьями играть нельзя, потому что, выигрывая, их теряешь. С малознакомыми людьми тоже играть не стоит – помни про начальника станции.
С тех пор я никогда не играю в карты на деньги.
2. Хрустальный шар прадедушки Вильгельма
Верю в силу природы:
были и будут роды,
множиться будут народы,
гибнуть – душой уроды.
Джумбер БеташвилиРодная сестра отца – архитектор Ирина Рудольфовна Козинцева, в девичестве Гангнус (или, как я называл ее в детстве, «тетя Ра»), была первым человеком на земле, сказавшим мне, что Сталин – убийца.
Услышать такое в сорок пятом году в Москве, над которой распускались пестрые хвосты победных салютов и под брюхом аэростата реял гигантский портрет с усами, шевелящимися на колышущемся алом шелке как живые, было почти непредставимо, и все-таки тетя Ра это сказала.
Если уж быть точным, она не сказала, а выкрикнула это мне в лицо. Из-под ее очков катились злые, почти безнадежные слезы ужаса, которые у нее вызвал я, тоненький, как поминальная свечечка, ее тринадцатилетний племянник, читая ей свои тошнотворно искренние стихи о Сталине, бросившем за колючую проволоку обоих моих дедушек и дядю.
Тетя Ра знала, чем она рискует. По всем правилам моего пионерского воспитания я обязан был донести на нее. Но если мой отец был моим первым поэтическим учителем, тетя Ра стала моим учителем политическим. Она рассказала мне о лагерях, о расстрелах – о том, о чем никогда со мной не говорили ни отец, ни мать, оберегая меня от страшной правды. В стихах отца лишь однажды вырвалось:
И когда положат все ножи на
Розоватый от безделья стол,
Я сожмусь, как ржавая пружина,
Медленно вложив сомненье в ствол.
Ни на что никто не даст ответа.
Полночь задохнется у окна,
Но последним вздохом пистолета
Разом разорвется тишина.
Я уйду спокойно, чуть осунусь.
Кровь кругом – что может быть грязней.
Тяжело, когда уходит юность,
Нелегко расстреливать друзей.
Отец никого не расстреливал, но его самого могли арестовать в любой день и расстрелять: он был сыном врага народа. Почему же он думал о самоубийстве, когда убийство ходило вокруг него? Может быть, он всю жизнь переживал самоубийство начальника станции, ибо сам не раз был близок к такому уходу и понимал, как страшно принять это непоправимое решение? А может быть, именно самоубийство начальника станции спасло его от собственного?
Тех, кто не потерял совести, даже молчаливое неучастие в преступлениях мучит как соучастие.
У отца есть строки: «Тяжело пить чаши круговые и платить за все не серебром». Тогда только ценой смерти можно было отказаться от круговой чаши позора. Ее вынуждены были если не испить, то пригубить даже Мандельштам, Пастернак, Ахматова, а Шостакович, с отвращением дергая кадыком, судорожно опрокинул чашу позора до дна, расплескав на гениальные ноты.
Но что имел в виду отец под словами «и платить за все не серебром»? Чем пришлось заплатить ему за то, что его не тронули? Он никогда не отказывался от своего арестованного отца, как это тогда делали многие. Он не вступал ни в комсомол, ни в партию. Под «расплатой не серебром», так терзавшей его, он, видимо, подразумевал примирение с тем, что презирал, хотя, может быть, не ненавидел, ибо ненависть никогда не была нашей семейной чертой.
Молитва, приводимая Куртом Воннегутом в «Бойне номер пять», гласит: «Дай Бог мне принимать то, что я не могу изменить».
А что делать, если не можешь чего-то изменить, но и принять этого не можешь?
Если нет права говорить, то остается право думать.
Тетя Ра, назвав Сталина убийцей, сделала мне в детстве ошеломивший меня неожиданностью подарок – право думать.
А недавно она сделала мне другой, на сей раз долгожданный подарок – хрустальный красавец-шар с причудливыми цветными фантазиями внутри, которые бы сделали честь самому Кандинскому.
Я помню этот шар с детства.
До исчезновения моего дедушки по отцу – математика Рудольфа Вильгельмовича Гангнуса, арестованного в тридцать седьмом за «шпионаж в пользу Латвии», этот шар играл роль пресс-папье на дедушкином столе, и, когда солнечные лучи попадали внутрь, шар улыбался во все свои хрустальные щеки, как маленькое солнце. А внутри его замороженно застыли серебряные пузырьки и радужные хрустальные водоросли, выдышанные в стеклодувную трубку, как звуки из флейты.
Сквозь этот шар было легче читать, потому что он увеличивал буквы. В него можно было смотреться, как в комнате смеха, – он растягивал лицо то в длину, то в ширину, превращал одно лицо в десяток лиц. Этот шар можно было гладить – он был прохладно ласков на ощупь, но не впускал в себя изнывающую от любопытства мальчишескую руку, и правильно делал. Он был замкнутым в себе миром, как сферический аквариум, и никакие, даже самые пронырливые рыбки не могли вплыть в его непроницаемый хрусталь, и ничто не колебало растений, выдутых на его дне.
Этот шар был семейной реликвией, и его хрустальные водоросли были так же запутаны, как и моя родословная.
Во время войны, как множество других советских детей, я, конечно же, ненавидел немцев, однако моя не совсем благозвучная фамилия Гангнус порождала не только шутки, но и немало недобрых подозрений – не немец ли я сам.
Эту фамилию я считал латышской, поскольку дедушка родился в Латвии. После того как учительница физкультуры на станции Зима посоветовала другим детям не дружить со мной, потому что я немец, моя бабушка Мария Иосифовна переменила мне отцовскую фамилию на материнскую, заодно изменив мне год рождения с 1932 на 1933, чтобы в сорок четвертом я мог вернуться из эвакуации в Москву без пропуска.
Ни за границей, ни в СССР я ни разу не встречал фамилии Гангнус. Кроме отца, ее носили только мои братья по отцу – Саша и Володя.
Однако в 1985 году в Дюссельдорфе после моего поэтического вечера ко мне подошел человек с рулоном плотной бумаги и, ошарашив меня, с улыбкой сказал: