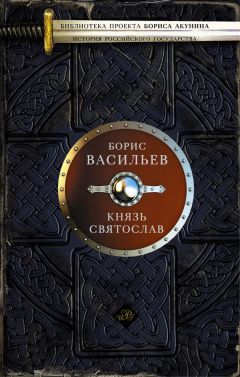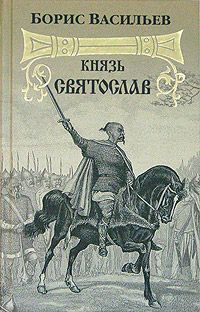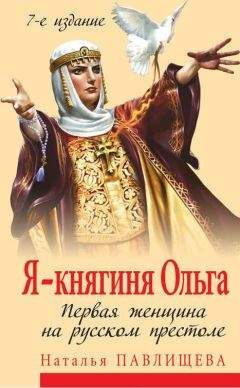Борис Пастернак - «Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями
“Боря, женившись на Жене, приезжал с нею в Петербург к ее семье. Женя была художница, очень одухотворенное существо. Она любила нас, мы любили ее. Боря приезжал к нам, всегда охваченный странной нежностью ко мне, и вместе с ним врывалась атмосфера большого родства, большого праздника, большой внутренней лирики. На этот раз он уже был женат и рассказывал о Жене, и приводил ее к нам, и изливал на нее такую нежность, что она краснела”.
Было начало нэпа, и мамин отец открыл в Петрограде рыбную лавочку, где ему помогали торговать жена и дочь Гитта. Гитта вспоминала, что молодые только заполдень появлялись в общей комнате и сразу торопились уйти. Из всей семьи папочка выделял хозяйку дома Александру Николаевну и, несмотря на то что ни маме, ни ему не хотелось вносить казавшуюся устарелой и по тем временам отжившей официальность в свои отношения, они подчинились ее уговорам и 24 января 1922 года зарегистрировали свой брак. Отец уговорил маму сменить фамилию, хотя она всячески противилась серьезности момента и вспоминала, как хотела, чтобы Боря, наоборот, взял ее фамилию.
Боря сразу оповестил о своей женитьбе брата Шуру в Москве.
В духе времени, ставившего под сомнение традиционные понятия, мама признавалась, что “много дикого придумали люди, – как писала она Шуре, – для меня самым диким всегда были общие понятия: грех, свобода, преступление, еврей, разврат, брак. И не только дикими. Но мучительными. И вот в чем страх этих понятий, они развращают нас, они не позволяют естественно и искренне нам жить, и власть их не в том, что мы их признаем, а в том, что мы их отрицаем. Мы начинаем с утверждения того, что свойственно именно нам, а прежде всего с отрицания чего-то возможного, что бывает у других и что другие называют так или иначе. Некоторым по натуре вовсе не свойствен разврат, но развращенная мысль уверяет, что все остальное скука и пошлость. Никто бы не задумался над тем, что близость и жизнь с дорогим тебе человеком – скука, пошлость, понижение напряженности и интереса к жизни, но слова «брак», «семья» как будто волокут с собой всю грязь, весь сор, всю мерзость, которые встречались на их пути”.
Соседка Стелла Адельсон 31 января 1922 года писала в Берлин: “Жоничка! Боря женился! Позавчера в Петрограде! В 12 ч. ночи раздался телефонный звонок и Боря сказал, что повенчаны. Завтра они должны приехать. Я об этом знала и не удивилась. Но как-то странно этот факт не может проникнуть в мозг. Знаю, но… понимаешь? Мы с Шурой целый день вчера проговорили об этом. И оба мы немного плакали. Что ж, дай бог счастья”[28].
По возвращении в Москву они сделали себе обручальные кольца. Маме очень нравилось, что ее колечко как раз умещалось внутри папиного. На внутренней стороне он сам нацарапал их имена: Женя и Боря.
Родители и сестры в Берлине по-разному восприняли эту новость. Жозефина позже вспоминала свои чувства, когда она узнала об этом. Ее тревожила трагическая необратимость этого поступка и будущие трудности, сужденные обоим:
Боря женился? Непостижимо, невозможно… В мое сердце закралась грусть, я испытывала острую боль. Боря женился. Правда ли это, возможно ли это, как это может быть? Увлеченный работой, яркий – Прометей в цепях… Как он мог умалить свое призвание до положения простого смертного: муж, жена – о, мучительная боль от этого известия. Женитьба – это когда из организма семьи вырезают живую ткань, пересаживают ее куда-то, возникает новая жизнь – о, но Боря… Какой должна была быть природа эмоциональных катаклизмов, вынудивших его принять такое… необратимое решение? Он собирался приехать в Берлин. Но это уже будет не прежний Боря. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть к перспективе появления нового Бори. Мне не стоило паниковать. Когда он и его жена приехали, я поняла, что он совсем не изменился: тот же оптимизм, та же непредсказуемая смена настроений, то же чувство юмора. Короче говоря, прежнее поэтическое мироощущение, не искаженное практическими соображениями. Милая Женя, тебе досталась нелегкая доля. Почему ты решила связать свою жизнь с этим человеком? Ты не сможешь следовать за ним в его полетах. И он не будет виноват в том, что набирает и набирает высоту… [29]
В Москве молодожены поселились в большой комнате, бывшей художественной мастерской Леонида Осиповича Пастернака. Комнату рядом, бывшую прежде гостиной, занимал брат Бориса Александр, молодой архитектор.
Дом находился в красивейшей части города, на Волхонке, рядом с Музеем изящных искусств. Окна выходили на Всехсвятский проезд. Слева на высоком цоколе стояла розовая церковь Похвалы Богородице, называвшаяся в округе Нечаянной радостью – по чудотворной иконе, которая там находилась. Справа – эспланада скверов и лестниц с Храмом Христа Спасителя в центре.
Тогда еще звонили колокола. С утра воздух наполнялся плотным гудением и солнечным блеском золотых куполов. Таково было пробуждение города, приход утра.
В нашу квартиру вела широкая лестница белого камня, двумя длинными маршами во много ступеней. Поначалу она была покрыта ковровой дорожкой. Двустворчатая дверь открывалась в переднюю – большую комнату с окнами во двор, заставленную разной мебелью и по углам заложенную дровами. Летом в ней кто-нибудь жил за занавеской. Зимой здесь было холодно.
Большая квартира, полученная дедом от Училища живописи в 1911 году, после его отъезда в Германию превратилась в типичную коммунальную. В письмах постоянно присутствуют семейства Фришманов и Устиновых, Василий Иванович с женой Елизаветой Ивановной, их прислуга Прасковья Петровна (Паша)[30] и другие. Различные ведомства постоянно требовали освобождения квартиры под учреждения, но предлагаемые варианты жилья были абсолютно непригодны. Во всем чувствовалась неуверенность и ненадежность будущего.
В апреле 1922 года разрешили частные поездки за границу, и с первого же дня отец стал хлопотать о том, чтобы увидеться с родителями и показать им свою молодую жену. Тем временем в различных журналах стали печататься написанные им ранее работы, задержанные разрухой. Отдельной книжкой вышли “Тайны” Гёте в его переводе, потом “Сестра моя жизнь”, в журналах были опубликованы “Детство Люверс”, “Письма из Тулы”, статья “Несколько положений”, цикл стихов “Разрыв”. Газеты, журналы и альманахи охотно печатали отдельные стихотворения становившегося знаменитым поэта.
Но жизненный обиход все еще оставался очень трудным, и мамина приятельница художница Елена Михайловна Фрадкина вспоминала, как зимой во ВХУТЕМАС привезли мороженую картошку, чтобы поддержать оголодавших студентов. Можно было взять ее домой сколько хочешь. Елена Михайловна рассказывала, что впервые познакомилась с Жениным мужем, знаменитым поэтом, в очереди за картошкой, когда они вдвоем пришли во ВХУТЕМАС с детскими саночками и, счастливые, везли их потом домой вниз по Мясницкой.
Летом, после тяжелой зимы и болезней, Женю поместили на месяц в подмосковный санаторий.
По четвергам на Волхонке собирались друзья. В окна большой комнаты заглядывал купол Храма Христа, на золоте которого играли лучи заходящего солнца. К старым друзьям Боброву[31], Асееву и Маяковскому добавились Дмитрий Петровский со своей женой Мариечкой Гонтой[32], приходили Черняки – критик и поэт Яков Захарович и его жена пианистка Елизавета Борисовна[33]. Она описала один из таких вечеров и свое впечатление от знакомства с мамой:
Б. Л. стал готовить чай и только успел разлить его в чашки, как в открытое окно его окликнул женский голос. Б. Л. подошел к окну и стал уговаривать собеседницу подняться и не обращать внимания на то, что она “в тапочках”. Из разговора стало понятно, что она приехала из-за города. Она пришла, окинула комнату ревнивым взглядом и сказала: “А вы уже без меня устроились”. Что мне сказать о Жене? Гордое лицо с довольно крупными смелыми чертами, тонкий нос с своеобразным вырезом ноздрей, огромный, открытый умный лоб. Женя одна из самых умных, тонких и обаятельных женщин, которых мне пришлось встретить. <…> Но характер у Жени был не легкий. Она была очень ревнива, ревновала Б. Л. к друзьям, на что не раз жаловались ближайшие друзья Б. Л. – Бобров, Локс.
В Жене вообще было мало мягкости, уютности, уступчивости. У меня сложилось впечатление, что Женя очень боится стать придатком к Б. Л., потерять свою душевную самостоятельность, независимость. Она все время как-то внутренне отталкивалась от Б. Л. Эта внутренняя борьба длилась все время, и именно она, по моему убеждению, привела к разрыву. В быту Женя все время требовала помощи Б. Л.
Она была одаренной художницей, отличной портретисткой, обладала безукоризненным вкусом.<…> Она была достойна Пастернака[34].
В Германию собирались основательно, думая остаться там на несколько лет. Мама мечтала продолжать свое художественное образование, причем Боря надеялся в этом на помощь и участие своего отца, профессионального преподавателя. Маме хотелось уехать в Париж, для чего она получила рекомендательное письмо от своего учителя по ВХУТЕМАСу П. П. Кончаловского.