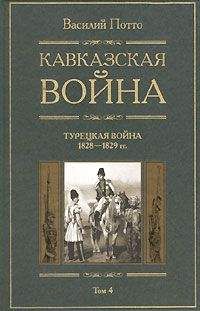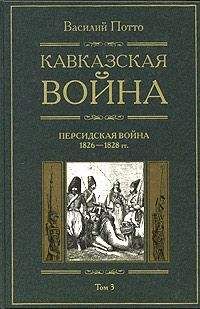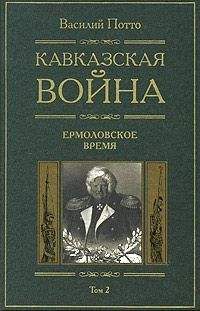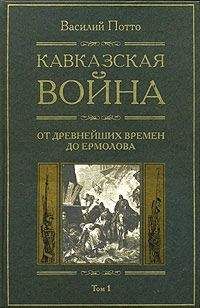Василий Потто - Кавказская война. В очерках, эпизодах, легендах и биографиях
Сам Пушкин, по возвращении в Тифлис, на вопрос одного знакомого, отчего он так скоро возвратился из армии, отвечал с обычной живостью: «Мне надоело ходить на помочах у Паскевича. Я хотел воспеть геройские подвиги наших молодцов-кавказцев – это славная часть нашей родной эпопеи; но он меня не понял и постарался выпроводить из армии. Вот я и приехал».
Плодом поездки его на Кавказ явилась поэма «Галуб»; она навеяна на него мрачными развалинами исторического Татартуба, придорожными могильными памятниками, оставленными «хищным внукам в память хищных предков», и уже более близким знакомством с бытом и характером горцев. Зато и какая громадная разница между «Кавказским пленником» и «Галубом» – словно в разные эпохи и разными поэтами написаны обе эти поэмы, так широко и плодотворно развернулся в это десятилетие творческий гений Пушкина.
Чтобы судить о верности передаваемых им картин, припомним, как Пушкин описывает, например, в своем путевом журнале осетинские похороны, которых ему довелось быть случайным свидетелем. «Около сакли, – говорит он, – толпился народ; на дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб; женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке, положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойного, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом; тело должно было быть похоронено верстах в тридцати от аула»…
Теперь посмотрите, как эта характерная сцена, произведшая на Пушкина глубокое впечатление, воспроизведена им в его «Галубе»:
Не для бесед и ликований,
Не для кровавых совещаний,
Не для расспросов кунака,
Не для разбойничьей потехи
Так рано съехались адехи
На двор Галуба-старика.
В нежданной встрече сын Галуба
Рукой завистника убит
Вблизи развалин Татартуба.
В родимой сакле он лежит.
Обряд творится погребальный,
Звучит уныло песнь муллы.
В арбу впряженные волы
Стоят пред саклею печальной.
Двор полон тесною толпой.
Подъемлют гости скорбный вой
И с плачем бьют в нагрудны брони,
И, внемля шум небоевой,
Мятутся спутанные кони.
Все ждут. Из сакли наконец
Выходит между жен отец.
Два узденя за ним выносят
На бурке хладный труп. Толпу
По сторонам раздаться просят.
Слагают тело на арбу.
И с ним кладут снаряд воинский:
Неразряженную пищаль,
Колчан и лук, кинжал грузинский
И шашки крестовую сталь[153],
Чтобы крепка была могила,
Где храбрый ляжет почивать,
Чтоб мог на зов он Азраила
Исправным воином восстать.
В дорогу шествие готово,
И тронулась арба. За ней
Адехи следуют сурово,
Смиряя молча пыл коней…
Уж потухал закат огнистый,
Златя нагорные скалы,
Когда долины каменистой
Достигли тихие волы.
В долине той враждою жадной
Сражен наездник молодой,
Там ныне в тень могилы хладной
Он ляжет, бледный и немой…
К числу стихотворений, навеянных на поэта Кавказом, следует отнести также «Подражание Корану», так грандиозно передающее дух ислама и красоты арабской поэзии; подражание Анакреону – «Кобылица молодая, честь кавказского тавра»; подражание Гафизу – «Не пленяйся бранной славой, о красавец молодой»; лирические произведения – как, например, «Кавказ», «Монастырь на Казбеке», «Обвал» и, наконец, полные глубокой задушевности стихи:
На холмы Грузии легла ночная тень,
Шумит Арагва предо мною…
Или:
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной,
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный…
и несколько других, как, например, «Был и я среди донцов, гнал и я османов шайку», навеянных случаем, встречей, минутной вспышкой вдохновения.
Из Тифлиса Пушкин ехал в сопровождении донских казаков, отслуживших очередь и возвращавшихся на родину, и потом, когда предстали перед ним широкие степи Дона и величавый образ казачьего народа, вечно готового к битвам, он вспомнил своих старых соратников, и это настроение поэта вылилось в художественном произведении:
Блеща средь полей широких,
Вот он льется!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далеких
Я привез тебе поклон.
Как прославленного брата
Реки знают тихий Дон:
От Аракса и Евфрата
Я привез тебе поклон.
Отдохнув от злой погони,
Чуя родину свою,
Пьют уже донские кони
Арпачайскую струю.
Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.
Наконец, заключительной песней Пушкина, довершившей, так сказать, эту вдохновенную передачу впечатлений славной войны, был «Олегов щит» – легенда, полная высокой поэзии и образности.
Когда ко граду Константина
С тобой, воинственный варяг,
Пришла славянская дружина
И развила победный стяг,
Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булатный
На Цареградских воротах.
Настали дни вражды кровавой;
Твой путь мы снова обрели.
Но днесь, когда мы вновь со славой
К Стамбулу грозно притекли,
Твой холм потрясся с бранным гулом,
Твой стон ревнивый нас смутил,
И нашу рать перед Стамбулом
Твой старый щит остановил.
По возвращении в Петербург воспоминания о Кавказе никогда не покидали Пушкина. В одной из своих поэм – «Домик в Коломне» – он, как бы случайно, шутя, вспоминает знаменитый Ширванский полк и несколькими чертами с поразительной верностью рисует нам этот полк именно таким, каким он был в грозный день ахалцихского штурма.
У нас война! Красавцы молодые,
Вы хрипуны (но хрип ваш приумолк),
Сломали ль вы походы боевые?
Видали ль в Персии Ширванский полк?
Уж люди! Мелочь, старички кривые,
А в деле всяк из них, что в стаде волк,
Все с ревом так и лезут в бой кровавый…
Ширванский полк могу сравнить с октавой.
В другом стихотворении – «19 октября», посвященном лицейской годовщине, поэт особенно тепло и задушевно обращается к одному из своих отсутствующих друзей:
Я жду тебя, мой запоздалый друг, —
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о Гете, о любви.
27 января 1837 года Пушкина не стало: он пал на дуэли, смертельно раненный кавалергардским офицером Дантесом. Пуля, попавшая в правый бок, остановилась в печени. Страдания его были ужасны, но твердость духа изумляла даже врачей. Арендт говорит, что он был в тридцати сражениях, видел много умирающих, но мало видел подобных. Последние минуты Пушкина были услаждены высоким вниманием императора Николая Павловича, почтившего его собственноручной запискою: «Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, – писал ему государь, – то посылаю тебе мое прощение и последний совет – умереть христианином. О жене и детях не беспокойся: я беру их на свои руки». Записку эту привез ему Жуковский. «Скажи государю, – ответил Пушкин, – что мне жаль умереть: был бы весь его. Скажи, что я желаю ему счастья в его сыне, в его России…»