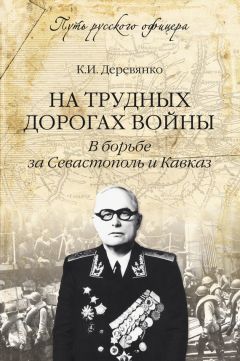Константин Скворцов - Рабочее созвездие
— Где же ты, Мишка, а? Все ветры, деревья и зверушки лесные, наверное, слышат мою тоску… Ой, Мишка, Мишка! Что же ты, а?
Все это было пустое. Она знала, что Мишка на нее больше не зарится и шутит с другими, а после того случая вовсе не заходит.
Зимой Мишка в гости пожаловал с вином, конфетами. Не больно-то сейчас какой разбежится с конфетами. И он тоже, олух, нет чтобы поздороваться по-людски со старухой, так брякнул: «Все пасешь, старая, свою овечку?»
Лия оглянулась на мать, с неприязнью сказала про себя: «А ты губы съежила и весь вечер пялилась за столом. Стыдобушка!»
Лия опять начала вспоминать, как прятались они тогда от нее в уголок комнатки — пошептаться. И мать присела к ним поближе. Они на кухню, Васена Карповна — в двери. После выпитой бутылки вина пришлось провожать Мишку. Куда же пойдешь в снег-то. Мишка упорно тискал Лию у подъезда и долго целовал пресными губами, а после, истомившись, повернул ее от себя, грубо поддал коленкой: «Иди-ка ты… к ведьме своей…»
Лия долго ревела той ночью. Мать то и дело просыпалась, шарила под подушкой, что-то нащупав, затихала, вскакивала и бежала к двери — заперта ли. И так каждую ночь. Лия видела в окно полную луну и низкие снеговые тучи, надеялась и утешала себя, что все еще у нее будет впереди, и муж, пусть шебутной, как Мишка, но ласковый наедине. Ей почему-то все казалось, что Мишка шебутится так, для видимости, а на самом деле тоже пропадает с тоски и ждет не дождется, когда найдет, встретит родного человека и сразу станет счастливым на всю жизнь. И она говорила себе и верила в то, что самым родным человеком для Мишки будет она, Лия. Только когда это будет, Лия не знала, но верила и надеялась. А лес становился все глуше, непроходимей.
Лия помнила, что, сойдя с автобуса, они зашли в лес от тракта, со стороны солнца, и пока собирали грибы, она несколько раз отыскивала поляны и взглядывала в чистое голубое небо. Солнце стояло высоко. Грибов было множество в мшистой болотной травке, стоило только встать на колени и шарить рукой по этой травке вокруг кочек. Грузди были еще невызревшие, очень мелкие, лучшие для засолки, и не собирать их ну никак нельзя было, хотя рюкзак поднимать становилось все тяжелее и тяжелее, но грибной запах от травы манил, притягивал.
Васена Карповна теперь резво забегала вперед и, отмахиваясь от комаров и паутины, совалась во все стороны:
— Вон проталинка! Вон там посветлее! Ты, глико, заблудились, а? Беда, чисто беда! Ох, бестолочь, бестолочь…
Лия молчала. Ее снова начали одолевать стыдные, неуемные мысли о Мишке, о том вечере. Если б они были вдвоем, он бы не ушел от Лии. Не мог он не остаться после горячей Лииной ласки, сбереженной, не растраченной в суете жизни.
Смородина кончилась, но на смену ей пошли завали, высокий — по грудь — папоротник и осиновый сырой подлесок. Лия не боялась леса. Можно и заночевать, да только утром надо на работу. А так и сжимающая сердце злость на мать, и блуждание в этом сумрачном лесу — все чепуха, кроме острой тоски по Мишке. Его худое, непробритое лицо с шальными, серыми, чуть косящими глазами все стояло перед ней. И мерещились родные запахи табака, пота и свежей сосновой стружки, чьи-то украдчивые шаги сбоку, за шиповником. Зашлось сердце: «Он!»
Лия остановилась, напрягла слух.
В лесу стояла вечерняя настороженная тишина, когда перед заходом солнца вдруг умолкают птицы, ветер перестает мять верхушки пихт, потому что они всегда выше смешанного леса, и не лопочут даже листья осины; все затихает, только нет-нет да и хрустнет где-нибудь сухая веточка, или неосторожно, громко хлопнет крыльями в рябиннике ворона, да вдруг заворкует задремавший голубь, и опять напряженная тишина, будто перед грозой.
«Блазнится уж мне», — подумала Лия. Неожиданно в ложбинке, под старыми почерневшими осинами они увидели множество подосиновиков. Грибы задиристо возвышались своими оранжевыми шляпками на крепких розоватых ножках над бледной, недозревшей костяникой и сочным, хрупким хвощом.
Лия удивилась, никогда в жизни не видела таких огромных грибов. Одной шляпкой можно было прикрыть ведро. Она сняла рюкзак и, волнуясь, начала срезать эти диковинные грибы, перебегая от одного места к другому. Срезы на ножках тотчас фиолетово темнели, и она укладывала эти ножки на дно корзины, а шляпки резала на четыре части. Скоро поняла, что в корзину больше пяти подосиновиков не войдет. Стала класть одни ножки, а шляпки нанизывала на прутик.
Васена Карповна бегала от гриба к грибу, взмахивала руками, ахала:
— Эко чудище-то привалило! За телегой бы сбегать…
Но подосиновики так же неожиданно исчезли, как и появились. Лия еще долго кружила вокруг, но грибы теперь попадались все старые с ожухлыми шляпками.
Лия надела рюкзак и взяла у матери корзиночку со смородиной.
Опять шли и шли.
Наконец почва под ногами стала посуше, начался редкий елушник. По глухой тропе выбрались к глубокому логу, за которым угадывалась проредь.
Старуха обрадовалась, сунулась вперед, стала метаться по осыпчивому краю и вдруг сорвалась вместе с кустом вишенника, с воплем полетела вниз на глинистое дно оврага и затихла там. Лия скинула рюкзак и скатилась следом за ней.
— Лиюшка, ногу мне больно, ногу, — стонала Васена Карловна. — Иди сюда, Лиюшка, иди…
Она взяла старуху на руки, как ребенка, и понесла вверх по осыпчивому, пологому подъему. Выбралась. Посадила ее на траву, осмотрела ногу, помяла — ничего.
— Ой, ой, ноженька моя! — приговаривала Васена Карповна. — Домой-то как я дойду, Лиюшка?
— Ну что ты как маленькая… — успокаивала Лия мать. — Ну-у, разнюнилась! Садись на закорочки. — Сама присела возле матери, умащивая ее на своей спине, поднялась, пошла покачиваясь. Устав, ссадила, вернулась за корзинкой и рюкзаком. Долго искала в овраге нож, так и не найдя его, махнула рукой, а помятую корзину и истерзанные грибы бросила — к чему лишняя тягость.
Так и не зная, что тракт справа, всего в километре, она упрямо тащила на себе то утихшую, молчаливую мать, то мокрый, тяжелый рюкзак. Шла вперед, на лимонный закат, неожиданно открывшийся из-за березовых перелесков, над желтым полем подсолнечника. Потом она не вынесла усталости, развязала рюкзак и, пьянея от терпкой грибной сырости, хлынувшей из рюкзака, вывалила грузди в траву под березу, надеясь еще вернуться за ними — все ж ведра три будет, — принялась рвать траву, закрывать.
— Баские больно груздки-то! — смиренно подала голос сидящая рядом мать. И вздохнула: — Ведра б два усолилось.
— Лезь! — приказала Лия, подставив взмокшую, костистую спину.