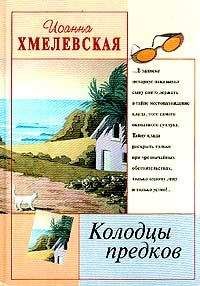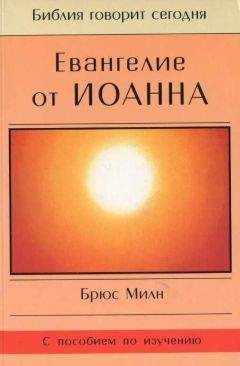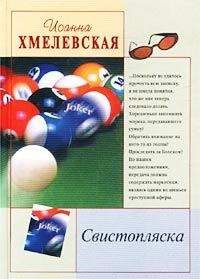Иоанна Ольчак-Роникер - В саду памяти
Павелек остался с дедом, бабкой и тетками. Боясь, что гестаповцы начнут разыскивать родных Густава, все, как только немцы вошли в Варшаву, укрылись в Милянувке, недалеко от Варшавы, под чужими фамилиями.
В первую же неделю войны, из-за усилившихся бомбежок, нам пришлось оставить квартиру в большом доме над Вислой. Слишком там было опасно. Над домом на Окульнике кружили самолеты. Ежеминутно раздавался грохот, и снаряд разрывался фонтаном осколков, кирпича и камней, взлетавших вверх. Цирк после нескольких попаданий бомб лежал перед нами, точно поверженный римский Колизей. Из нашей квартиры, которая была на пятом этаже, все вывалилось на землю, и мы, беспомощные, оглоушенные, стояли перед грудой книг и полок, не зная, что со всем этим делать, или просто бросить, — пишет мать в своих воспоминаниях. Взяла ли я с собой что-то еще, кроме любимой целлулоидной куклы Михала? Расплакалась? Не думаю. Я же не знала, что прощаюсь с домом навсегда.
Мы пошли на Вильчую, в оставленную Быховскими квартиру. Люди без устали переселялись с места на место, из района в район, с неясным сознанием, что где-то может быть не так опасно. На Вильчей бабушка чувствовала себя неуютно. Во что бы то ни стало хотела добраться до книжного магазина. Ее больше волновали брошенные без присмотра книги, чем собственная участь. Два извозчика — Михал и Ян — сложили на деревянную повозку пару наших чемоданов и, минуя заторы баррикад, под огнем зенитных орудий помогли нам перебраться на Мазовецкую. Там мы пережили следующую неделю жутких бомбежек, ночами спускались в подвал, а днем устраивались на нижнем этаже. Вокруг валялись вороха книг и альбомов, упавших с полок от сотрясения при бомбежке. Красивые когда-то цветные репродукции, выскочив из рамок, были разбросаны посреди обломков стекла по полу рваные, грязные от копоти и пыли. Это противоречило всем вложенным в меня до этого правилам гармонии и лада и создавало кошмарное ощущение. В то же время новая ситуация наполняла меня необычными и не известными мне дотоле впечатлениями. В восхищение приводили раскладушки, расставленные в «синем кабинете». В углу бирюзовая кафельная печь с трубой. Витрины без стекла. Я могла просто перескочить через них и попасть сразу же на улицу, что для меня стало большой неожиданностью. На дворе, где еще совсем недавно перед «Земяньским» кафе располагался скверик, ржали армейские кони. Именно тут, на Мазовецкой, нас разыскал Рысь.
Когда он добрался до Варшавы, квартиру свою он застал пустой, вокруг — пепелище и руины. Семнадцатилетний паренек в осажденном и разрушенном городе, покинутый родными, один перед лицом непонятной ему военной катастрофы — такое трудно перенести. Но Рысь был человеком огромной силы духа и, довольно быстро стряхнув с себя отчаяние, стал искать, чем заняться. Он оказался хорошим помощником. Раздобыл где-то фанеру и забил ею окна, в которых не было стекол. Откуда-то наносил воды в ведерках, ведь водопровод не работал, он выстаивал в очередях за хлебом перед пекарнями, несмотря на подстерегавшую на каждом шагу опасность, носился по городу по своим тайным конспиративным делам. Он уже был в курсе того, что семья в безопасности в Вильно, а значит, за нее можно не волноваться. Всем поднимал настроение своим оптимизмом и верой, что ни у кого из нас и волос с головы не упадет.
Самое странное, но в жизни того времени ужас шел рука об руку с отвагой, гнев — с эйфорией, печаль — с энтузиазмом, отчаяние — с безудержной беззаботностью, и были характерны для варшавского кошмара. Немецкая артиллерия беспрерывно обстреливала город, с неба летели бомбы, полыхали дома, валились стены, а на улицах движение, как до войны; магазины открыты, в кондитерских полно народа, в кинотеатре «Наполеон» на площади Трех Крестов крутили кино. Ходили друг к другу в гости. Обменивались необходимой информацией: Загорелся замок. Угодили прямо в Собор. На Краковском Предместье дома полностью разрушены. На площади Пилсудского. На Крулевской. Рассказывали анекдоты.
Каждый день нас навещал Януш Корчак. С далекой Крохмальной из Дома сирот он прибегал оживленный, в офицерском мундире, который сшил себе накануне войны в надежде, что его призовут в действующую армию. Вопреки апокалипсису убеждал, что «минуты, которые мы переживаем, — чудесные и творческие, что в их огне и крови закаляется истина новой прекрасной жизни». Он не переставая повторял: «Только слабый и никчемный надламывается и сомневается». В подвалах рыдали люди, кто-то громко читал молитву: «Под Твою защиту прибегаем». Но только из сборника стихов моей матери «Незабываемый сентябрь» я поняла, что в момент осады мы были в шаге от гибели.
Капитуляция — тоже проблески воспоминаний. Удивление, что вокруг тихо. Выход на улицу завален камнями и стеклом. Вокруг одни развалины. Дом напротив как стоял, так и стоит, только вместо окон и дверей черные опаленные дыры. Огонь еще не погас. Тонкий пламень ползет по стенам и, натолкнувшись на уцелевший кусок, которым можно поживиться, радостно вспыхивает и ползет вверх. Эта картина так меня, видимо, потрясла тогда, что и теперь стоит перед глазами. Пустой двор, на котором еще совсем недавно со мной шутили польские солдаты. Найденный на земле орел с фуражки. Радость, что где-то наверху в сгоревшем доме уцелело в окне одно стекло. Немцы в своих зловещих шлемах. Взрослые не разрешают брать от них конфеты, которые могут быть отравлены.
После капитуляции мы уже домой не вернулись. В здании на Окульнике бомбой сорвало крышу и повредило стены. К счастью, уцелел еще дом «Под знаком поэтов» на площади Старого Мяста 12, где размещались типография и издательские склады. Ясно было, что при немецкой оккупации и речи быть не может ни о какой издательской деятельности. Итак, средневековые помещения вновь переделываются в квартиру. Но самое поразительное — повсеместные усилия людей в безмерном хаосе и всего вокруг гибнущего вить семейные гнезда, стремясь вопреки происходящему сохранять пусть мнимый, но принятый стандарт цивилизованного бытия, отвечающий требованиям культуры. Это позволяло сохранять достоинство.
Бабушка, которой тогда было уже шестьдесят пять, вложила в создание нового жилища много труда и по-юношески творческой энергии. Починили ванную, переделали плиту. Стены выкрасили в любимый синий цвет, расставили уцелевшую на Окольнике мебель, развесили картины. В этом было подсознательное заклинание судьбы — пусть позволит как можно дольше наслаждаться красотой внутреннего убранства. А ведь уже в октябре начали кружить слухи о создании немцами гетто и обязательном переселении туда всех людей еврейской национальности. Мои родные не принимали этого всерьез и продолжали в руинах разгребать жизнь. Был открыт книжный магазин, в котором толпился народ, особенно те, кто лишился своих библиотек, а без книг жить не мог.