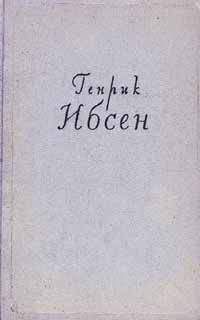Екатерина Олицкая - Мои воспоминания
— Вы не узнаете меня, а я вас сразу узнала, — сказала одна.
Я вглядывалась. Что-то знакомое было в стоящей передо мной изнуренной, истощенной женщине. Пышная рыжеватость волос, глаза… Нади… Неузнаваемая, но все-таки Надя. Галю Затмилову, жену левого эсера Павлова, я не знала. Не знала я и Лену, жену эсера Новикова. Все три были беспартийными, жены своих мужей, не больше.
И сразу же, тут же в предбаннике, они спешно рассказывали мне об уфимском процессе. Вся уфимская ссылка, где жили они с мужьями, была арестована. Был создан вымышленный процесс. О мужчинах они ничего не знали. Их, женщин, допрашивали, — вернее, их принуждали давать ложные показания. Их вызывали по одной в зал суда, где заседала тройка, и зачитывали приговор. Десять лет тюрьмы и пять поражения в правах. Все трое они говорили одновременно. Хотели что-то сообщить, о чем-то спросить…
Галя Затмилова была раньше комсомолкой. В Уфе она познакомилась со своим будущим мужем, левым эсером, и от комсомола отошла. Настроена она была очень лево, и очень взвинчена и возбуждена, и понять из ее рассказа я ничего не могла. Они что-то говорили мне об Ирине Константиновне Ко-ховской, арестованной по тому же уфимскому делу, о Марии Спиридоновой.
Лена Новикова, маленькая, худенькая, вся сморщенная от истощения и болезни, тихонько стояла рядом и тяжело дышала. Ее муж был арестован за несколько дней до нее. Дома осталась малолетняя дочка.
Конечно, ни Надя, ни Лена, ни Галя не подписали ложных показаний. Они точно знали от мужей, что никакой подпольной работы в уфимской ссылке не велось. Все они испытали в тюрьме приемы следствия тех лет. Если так обращались с беспартийными женщинами, то что должны были пережить их мужья…
Женщины очень обрадовались встрече со мной. Их тяготила окружающая среда коммунисток, оправдывавших все происходящее, где каждая утверждала свою невиновность, непричастность к совершаемым кем-то злодеяниям.
В сумятице, в толчее предбанника под окрики надзора: «Раздевайся. Вещи сдавай», я ничего не могла ни понять, ни осмыслить.
В присутствии мужского надзора женщины разделись, нанизали свои одежды на круглые металлические кольца и сдали их для прожарки. Банная обслуга выделила каждой женщине крохотный кусочек мыла. Надзиратели, выбритые, вымуштрованные, одетые тщательно в военную форму, выстроили голых женщин в шеренгу и приказали им идти вперед по одной. В дверях стоял конвоир. Указывая пальцем, он считал каждую: «раз, два, три…». За дверями шел коридор. Вдоль всего коридора шеренгой стояли надзиратели. Мимо них вереницей шли женщины. Будто нарочно, на стене висело огромное зеркало. В нем отражалась вся картина: строй надзора и вереница голых женщин.
Женщины потуплялись, сжимались от унижения. Но кто же был унижен? Голые арестантки или охраняющий их надзор?
И все же огромное большинство арестанток дрожало с головы до ног, глаза их были полны слез:
— Мы больше не люди, мы хуже скота.
Я же смотрела на телохранителей наших и думала, — люди ли они? и пославшие их?
Баня изумительная, роскошная. Она была разделена перегородками на массу маленьких кабин. В каждой кабине душ, таз, в двери вмонтировано зеркало. Как хороша вода после двухнедельного пребывания в душном и тесном вонючем вагоне. Намылиться и стать под душ. Это ли не блаженство?
Но внезапно поступление воды прекратилось. Пять минут, положенные на мытье, истекли. Мылом вспенены волосы, в мыле все тело. Кого это интересует? Дана команда. Вода перекрыта. Одевайся и выходи.
Мы стирали полотенцами мыло. Волосы слипались, клейкие от грязи. В раздевалке мы получили свое же грязное белье. Оно было еще теплым от прожарки. Чье-то кольцо с одеждой затерялось, чье-то свалилось на пол в лужу. По нему прошли чьи-то ноги… Окрики, ругань, угрозы…
И снова строй. Снова мы загнаны в вагон. Я снова лежу на нарах, вытянувшись в струну, сжатая между соседями. Мысли… Разгадать бы загадку. Надя, Галя, Лена… Тяжкие преступницы. Что с мужчинами, если так гонят их ни в чем не повинных жен? Мне страшно жить среди этих людей
В вагоне начинаются заболевания. В основном, на почве истощения. Женя Гинзбург декламирует «Мцыри», Маруся И. читает Маяковского. На остановках мы замолкаем. Но на ходу поезда, чтобы подбодрить себя, заключенные составляют хор. Кто-то предлагает спеть «Интернационал». Возмущенные реплики: «Как можно? Мы заключенные, мы не имеем права». И вдруг кто-то запевает «Широка страна моя родная…» Я вздрагиваю, приподнимаюсь на нарах. Что это? Фарс или издевательство? А хор подхватывает и по всему арестантскому вагону звучат слова: «Где так вольно дышит человек». Я ничего не понимаю. Я смотрю на поющих женщин. Только что их голых прогнали сквозь строй мужского надзора. Запертых в арестантском вагоне, их везут, как крупный рогатый скот… «Широка страна моя родная»… Где же предел человеческой подлости или глупости? Наверное, я-таки ихтиозавр. Или еще какое-нибудь доисторическое животное.
С противоположной полки смотрит на меня Р. У нее умное лицо, острые насмешливые глаза. Она шепчет Зине: «Все это было бы так грустно, когда бы не было смешно».
Неожиданно на верхних нарах начинается истерика. Я ненавижу истерики, но на этот раз, по крайней мере, хор смолкает.
Кто же окружает меня? Кто эти несчастные женщины? Лучшие ли это люди партии? Или отбросы, балласт? За что и почему? Кому понадобилась такая их участь?
Скоро месяц, как мы на этапе. Всех нас шатает, — кружится голова. Раз начавшиеся, месячные кровотечения у женщин не останавливаются. Нет воды, нет смены белья. Нет даже просто лишней тряпочки. Рубашки, бюстгальтеры — все разрывается на бинты.
Чем дальше мы едем на восток, тем упорней идет разговор о Колыме. О ней слышали на воле, о ней рассказывали ужасы. Мне не страшны ужасы Колымы. Мне страшно жить среди этих людей. Владивосток. Пересыльный лагерь
Поезд прибыл во Владивосток. Какое счастье вырваться из вагона. Воздух, небо, деревья, трава зеленая… Нас всех шатает. С трудом, поддерживая друг друга, идем мы к женской пересыльной зоне лагеря. Вокруг все необычно, — сопки, деревья, море. Я вспоминаю японские и китайские рисунки, виденные на шкатулках, на открытках, в книгах. Раньше они казались мне декадентством, теперь мне кажется, я начинаю понимать восточную живопись. Какая красота, воздушность, прозрачность! Сил нет, а хочется идти дальше. Но впереди опять тюрьма, опять решетка.
Мы идем теперь уже не по-вагонно. В нашей пятерке Надя, Галя, Лена, Люся и я. Мы четверо еще держимся. Но Лена еле передвигает ноги. Мы ведем ее под руки. У Лены — порок сердца.
Я ошиблась. Нас ждала не тюрьма, а нечто худшее: высокий деревянный забор; вышки караульных; вокруг колючая проволока.