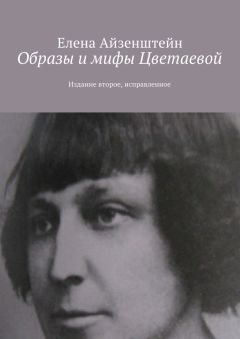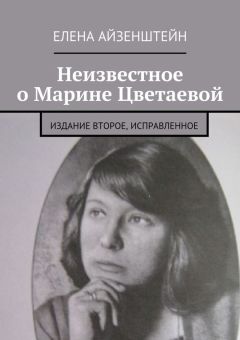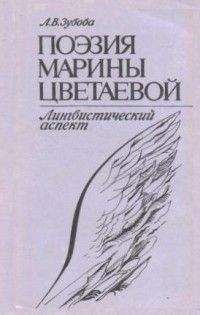Ирина Шевеленко - Литературный путь Цветаевой. Идеология, поэтика, идентичность автора в контексте эпохи
Деятельные усилия Цветаевой по завоеванию русского Парижа в конце 1925 – начале 1926 годов имели прагматический смысл: никаким заработком, кроме литературного, она жить не могла. Поэтому она тщательно подготавливала почву для своего первого литературного вечера, сначала намеченного на декабрь, потом отложенного на январь, затем, уже в последний раз, перенесенного на 6 февраля. Михаил Осоргин (с которым она была знакома еще по послереволюционной Москве), несомненно по просьбе самой Цветаевой, выступил в газете «Последние новости» с обширной статьей «Поэт Марина Цветаева»349, в первом же абзаце которой рекламировался предстоящий вечер. Цветаева налаживала контакты с русскими культурными кругами Парижа, с журнальным и издательским миром. Видимо, уже в конце 1925 года существовал план издания нового литературного журнала, задуманного П. П. Сувчинским и Д. П. Святополком-Мирским, к активному сотрудничеству в котором Цветаева была приглашена. Позже к двум названным инициаторам журнала в качестве соредактора примкнул С. Эфрон. После обсуждения ряда вариантов редакторы выбрали названием для журнала «Версты» – по названию цветаевских сборников. Имя Цветаевой должно было значиться на обложке издания как имя ближайшего сотрудника и быть своеобразным знаменем того направления в современной поэзии, которое журнал намеревался пропагандировать. Можно было ожидать, что Цветаева вскоре окажется в центре одного из литературных «кружков»; во всяком случае, наличие в ее окружении двух критиков-редакторов – Марка Львовича Слонима («Воля России») и Дмитрия Петровича Святополка-Мирского (предстоящие «Версты»), апологетически относившихся к ее творчеству, предполагало такое развитие событий. Цветаева между тем вынашивала замысел большой статьи, за которую и принялась, как только парижский быт был налажен.
Это была статья «Поэт о критике», помеченная при публикации январем 1926 года, но в действительности дорабатывавшаяся Цветаевой еще в течение февраля и посланная ею в самом начале марта в только что возникший в Брюсселе журнал «Благонамеренный».
После «Светового ливня» и «Кедра», исключая мелкие прозаические заметки, Цветаева только раз обратилась к прозе всерьез. Это был очерк «Герой труда (Записи о Валерии Брюсове)», завершенный в августе 1925 года. Лишь отчасти посвященный Брюсову, «Герой труда» был попыткой очертить собственную раннюю литературную биографию и объяснить особенности своего пути в литературе и своей эстетической позиции. Вопросы понимания природы поэтического творчества также заняли в «Герое труда» существенное место, и в этом отношении очерк 1925 года подвел Цветаеву к тому комплексу размышлений, которому была посвящена новая статья.
Резкий полемический запал «Поэта о критике» бросался в глаза с первых же строк, а приложенный к статье «Цветник», составленный из откомментированных фрагментов критических статей Георгия Адамовича, делал ее беспрецедентным выпадом в краткой истории эмигрантской критики. Количество же авторов, которые были прямо (поименно) или косвенно задеты по ходу статьи, как будто указывало на прямое намерение Цветаевой спровоцировать литературный скандал. Едва ли это было так. Цветаева безусловно бралась за работу с сознанием собственного ранга, а значит – права в том числе и на резкость суждений. Однако предметом ее статьи были не «личности» и даже не эмигрантская критика как таковая. Несколько лет наблюдений за литературной жизнью и, в частности, несколько лет чтения рецензий на собственные произведения обнаружили для Цветаевой существование в критике некоторых системных представлений о литературном тексте, которые существенным образом не совпадали с ее собственными. Именно с этими представлениями о тексте, о механизмах его порождения и способах анализа Цветаева и взялась полемизировать. Разумеется, по ходу статьи она обращала внимание и на многое другое: на то, что рецензии в эмигрантских изданиях пишут зачастую дилетанты, что суждения о писателях «по политическому признаку» сделались повседневной нормой и т. д. Однако не это и даже не желание хлестко ответить Адамовичу руководило Цветаевой в первую очередь.
Двойственность смысла названия статьи – «поэт о критике как таковом (или о любом данном критике)» и «поэт о критике как роде письма» – конечно, была учтена Цветаевой. В обоих вариантах прочтения была важна и семантически однозначная часть – «поэт». Это, как показывал текст, было не просто обозначением идентичности пишущего, но характеристикой дискурса: Цветаева продолжала свою «дискурсивную революцию», начатую статьей о Пастернаке; она снова писала в несуществующем жанре, желала говорить о критике, оставаясь на дискурсивной территории поэзии. Это подчеркивалось и эпиграфами к статье. Эпиграф из Монтеня, впоследствии перекочевавший во второй раздел сборника «После России», говорил о принципиальной отрешенности автора-поэта от контакта со своими слушателями, о рассчитанности его речи на некую высшую верификацию и высший суд:
Souvienne vous de céluy à qui comme on demandoit à quoi faire il se peinoit si fort en un art qui ne pouvoit venir à la cognoissance de guère des gens, —
«J’en ay assez de peu», répondit-il. «J’en ay assez d’un. J’en ay assez de pas un»350 (СС5, 274).
Второй эпиграф, подписанный инициалами самой Цветаевой, давал возможное имя этой высшей инстанции, судящей труд поэта: «Критика: абсолютный слух на будущее» (СС5, 274). Хотя эта инстанция именовалась «будущим», сущность ее оказывалась экстемпоральной. Она противополагалась именно тем оценочным системам, которые навязывало художнику время. Одно из центральных в «Поэте о критике» сопоставлений – материального производства (мастерства сапожника) и духовного деяния (творчества поэта) – завершалось знаменательным утверждением:
…и сапог и стих уже при создании носят в себе абсолютное суждение о себе, то есть с самого начала – доброкачественны или недоброкачественны. Доброе же качество у обоих одно – неснашиваемость.
Совпасть с этим внутренним судом вещи над собою, опередить, в слухе, современников на сто, а то и на триста лет – вот задача критика, выполнимая только при наличии дара.
Кто, в критике, не провидец – ремесленник. С правом труда, но без права суда.
Критик: увидеть за триста лет и за тридевять земель (СС5, 280).
Представление об «абсолютном» характере эстетической ценности коррелировало со скептическим отношением Цветаевой к институциональным механизмам формирования оценок и репутаций. Сохранявшая для нее свою притягательность позиция пишущего человека, не признающего зависимости от литературных институций, подталкивала Цветаеву по‐своему концептуализировать связи внутри треугольника «писатель – критик – читатель». Ценность произведения искусства, по Цветаевой, неотъемлемо присуща, имманентна самому произведению, а не является продуктом его восприятия в определенное время и в определенном месте. Задача критика – в постижении этого «абсолютного суждения о себе», заключенного в каждом произведении. Таким образом, как и поэт, критик выводится Цветаевой за рамки истории, т. е. Времени. Оба они предстоят перед лицом Вечности: первый создает произведения, каждое из которых «несет в себе абсолютное суждение о себе», второй открывает содержащийся в произведении «внутренний суд вещи над собой». Цветаева тут же добавляет: «Всё вышесказанное отношу и к читателю. Критик: абсолютный читатель, взявшийся за перо» (СС5, 280). Присоединение третьего участника литературного процесса к первым двум, таким образом, довершает здание цветаевской литературной утопии.