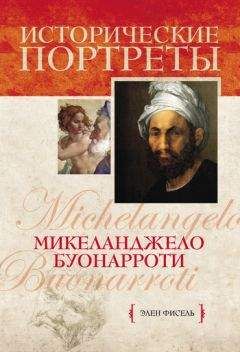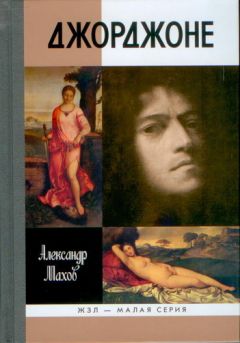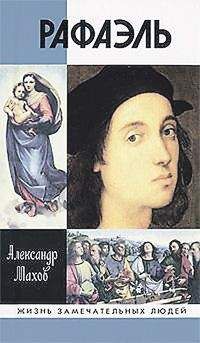А. Махов - Микеланджело
Недаром говорят, что Флоренция — это город безумцев, готовых с самых высоких трибун охаивать любую новинку и отстаивать свои суждения, не считаясь со здравым смыслом. С этим он никогда не мог согласиться. Особенно его возмущало высокомерие, с каким отстаивались заведомо спорные позиции. Своё возмущение он выразил в мадригале:
Прекрасным мы порой не дорожим,
А мелких чувств убогих
Полно у судей строгих —
Чернят всё то, что дорого другим.
Как часто я раним,
Собою недоволен,
И тут хоть кол на голове теши.
Когда ж я одержим,
Над чувствами не волен,
То выплесну толпе порыв души.
В наш век слепой все средства хороши,
Чтоб заурядность прославлять с амвона.
С ума тут спятишь от пустого звона! (109)
В работе над глыбой он не переставал думать, каким же будет его герой и должен ли он походить на своих предшественников. Во Флоренции давно утвердилась традиция изображать Давида тшедушным пастушком, одержавшим победу над Голиафом лишь благодаря чуду. Таким он выглядит на картине Андреа дель Кастаньо, написанной на коже, или у Антонио Поллайоло (одна в Вашингтоне, другая в Берлине). Причём изысканно одетый герой Поллайоло, кажется, не камень удерживает тонкими женскими пальчиками, а вазочку с румянами. Даже великолепный бронзовый Давид Донателло, которого Микеланджело ежедневно лицезрел, живя во дворце Медичи, не мог послужить ему примером. У Донателло обнажённый дастушок изображён в кокетливо надвинутой набекрень широкополой шляпе, из-под которой ниспадают до плеч слишком длинные кудри. Обут он в высокие сапожки, в каких нынче щеголяют молодые модницы. Правой рукой он опирается на шпагу, а левой с зажатым камнем подпирает чресла. Несмотря на неприкрытый детородный орган отрока, у него округлый живот и оформившиеся девичьи груди.
После изгнания Медичи андрогинный бронзовый Давид временно оказался во дворце Синьории рядом со своим мраморным собратом того же Донателло, на сей раз несколько повзрослевшим и облачённым в лёгкую тунику, прикрывающую гениталии. В том же дворце им составил компанию задумчивый юнец Давид работы Верроккьо. При взгляде на эти изваяния, созданные великими мастерами Кватроченто, трудно себе представить, что их щуплый пастушок мог одолеть гиганта Голиафа, ибо все они скорее смахивают на изящных дворцовых пажей.
Кто бы ни обращался к образу Давида, библейский герой неизменно представал триумфатором, одержавшим победу. А какой ценой она досталась, можно только догадываться. Рисунки, которые Микеланджело лихорадочно делал в альбоме, не давали ему ответа на вопрос. Но он уже понял одно — показ Давида победителем, почившим на лаврах, лишает его возможности выявить в скульптуре скрытую энергию, напряжение воли и концентрацию всех сил перед решающим моментом. Внутренне он был даже рад, что ущербная глыба Дуччо не позволяла изваять Давида триумфатором с поверженным Голиафом у ног. Позднее его идею подхватил Бернини, изваявший двух Давидов, готовых к борьбе (Рим, галерея Боргезе).
Вскоре было принято окончательное решение. Герой должен быть запечатлён в канун великого подвига с горящим от гнева взором и лёгкой тенью закравшегося в душу сомнения перед решающей схваткой, свойственного любому смертному.
— Какой смысл ваять уже одержанную победу? — признался он как-то в разговоре с друзьями. — Она должны быть очевидна из самой скульптуры.
Поначалу он вылепил модель в воске (Флоренция, дом Буонарроти), которая по его задумке должна быть в многократно увеличенном размере каким-то образом втиснута в искалеченную глыбу. Отдельные детали фигуры наносились им на картон и прикладывались к лежащей глыбе, дабы точно определить положение головы, торса и конечностей, как это делалось им во время фресковой росписи в мастерской Гирландайо. Всё было заранее продумано и рассчитано вплоть до последнего кусочка мрамора. Искалеченная глыба диктовала ему свои жёсткие требования. До сих пор на темени Давида виден оставшийся след чужого резца, а если поближе приглядеться, то на плоской спине кое-где недостаёт самой малости округлости тела.
Нанося удар за ударом молотом по долоту, Микеланджело работал в исступлении, постепенно вызволяя гигантскую фигуру из каменного плена, а та отчаянно сопротивлялась, не желая расставаться с родной средой. Все его помыслы были направлены к тому, чтобы сотворить юношу, вышедшего из реальной повседневной жизни. В нём не должно быть ничего сверхъестественного, а тем паче божественного, поскольку его обуревают свойственные всем людям чувства и желания. Давид не устремляет взор к небу, прося помощи, а смотрит в упор на врага. В минуту смертельной опасности он сдержан и осторожен. Его лицо не искажено криком, он не распаляется страстью и не корчится в неимоверных усилиях, как это можно увидеть у того же Бернини. Давид твёрдо стоит на земле и сжимает камень… Всем своим обликом он внушает веру в исход схватки со злом.
Своим Давидом Микеланджело хотел выразить веру в республику и презрение к врагам Флоренции, показав в мраморе всю красоту обнажённого мужского тела в момент наивысшего напряжения и заключённой в нём энергии. Задуманный им герой — это крепкий мускулистый юноша, не мальчик, но ещё и не взрослый мужчина.
Гигантский юнец находится в переходном возрасте, когда неуклюжее тело вытягивается, а упругие конечности выглядят несоразмерными туловищу. Его прекрасное лицо ещё не тронуто пушком растительности. Но он способен уже одним лишь взглядом вызвать трепет и обратить неприятеля в бегство.
Излучаемая Давидом страстность и решительность получили в дальнейшем наименование la terribilita, что стало отличительной особенностью творений Микеланджело, не свойственной его прежним работам, а тем более «Пьета». Это не столько «устрашающая сила», сколько сильное воздействие микеланджеловской статуи или фрески, способное потрясти зрителя и заставить его сопереживать увиденному.
Он никого не впускал в своё, как он выразился, закупоренное пространство. Ему даже в голову не приходила мысль обратиться к кому-либо за помощью или советом. Уже с самого начала в работе над гигантской скульптурой было немыслимо участие чужой руки, поскольку трудно было учесть все пропорции будущей фигуры, извлекаемой из повреждённой глыбы, чья ширина раза в четыре с лишним меньше высоты. Микеланджело сам признавал в разговоре с друзьями, что при работе с мрамором невозможно исправить допущенную ошибку, когда всё идёт насмарку, а потому полагался только на самого себя. Когда навещавшие его Граначчи и Баччо да Монтелупо предлагали свои услуги, он спокойно, стараясь не обидеть, отклонял их предложения.