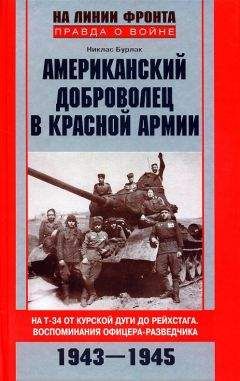Дмитрий Ломоносов - Записки рядового радиста. Фронт. Плен. Возвращение. 1941-1946
Завел знакомство с молодым парнем, который предложил мне коммерческую сделку. Его родственник — владелец небольшого спиртзавода на окраине городка. Он готов обменивать табак на спирт.
Это предложение было принято с восторгом моими соседями по палате, а мне представилась возможность ближе познакомиться с немецким бытом. Я стал бывать дома у моего «агента» и познакомился с его семьей. Они стали более откровенными в разговорах со мной. В отличие от союзников, которые в общении с побежденными немцами проявляли высокомерие, русские солдаты относились к немцам как к равным, и это те высоко ценили. В то же время высказывали возмущение фактами вандализма, проявлявшимися в период прохождения фронта через город, а также массовой депортацией немцев из Восточной Пруссии: беженцы оттуда проходили через Виттшток.
Оправдываясь, мне приходилось напоминать им, что немцы в оккупированной ими части России, на Украине и в Белоруссии вели себя по отношению к населению куда более бессовестным образом.
Поставляя спирт своим «сопалатникам», сам я был весьма равнодушен к выпивке. Даже на фронте, когда курильщики предлагали мне свою порцию «наркомовских» 100 граммов в обмен на табак, я редко пользовался этой возможностью, хотя одновременно выпитая двойная порция водки не вызывала у меня опьянения, только бодрила. Сказывалось высокое нервное напряжение.
Однажды мой «поставщик» пригласил меня распить бутылку разведенного спирта в компании со своим дедом, побывавшим в русском плену в 1918 году и немного говорившим по-русски. Я не заметил, как «перебрал». Обнаружил это, когда мои собутыльники зачем-то вышли из комнаты, а я, глядя на свое отражение в стоявшем в углу трюмо, продолжал что-то говорить. Понял, что пора собираться домой.
Действие это происходило в мансарде, куда вела довольно крутая деревянная лестница. Спускаться по ней на костылях непросто: сначала ставишь на нижнюю ступеньку костыли, затем, повисая на них, опускаешь на ту же ступеньку здоровую ногу. Потеряв равновесие, я вдруг повалился вперед, описав на костылях радиус. Падая, схватился за перекладину потолка и повис, болтаясь, как маятник. На грохот костылей выскочили хозяева и сняли меня, благополучно отделавшегося.
Раны на моих ногах почти зажили, если не считать свищей, не заживавших и сочившихся гноем с кровью. Врачи решили меня выписать, считая, что в России мне смогут оказать более квалифицированную помощь в залечивании этой принявшей хронический характер болезни.
Мне выдали проездные документы, продовольственный аттестат и направление в комендатуру советских войск в Берлине, куда следовало добираться своим ходом. Железной дороги в Виттштоке не было, и до станции нас, нескольких выписанных из госпиталя, отправили на конной повозке. У всех были недолеченные раны, я и еще один из моих спутников — на костылях.
На станции, куда нас привезли, поезда ходили не по расписанию. Перрон был заполнен толпой немцев, куда-то переезжавших и готовых штурмовать состав, когда его подадут. Участвовать в штурме с нашими повязками, палками и костылями не представлялось возможным, и мы обратились к дежурному по станции — важному немцу в красной фуражке за содействием. Он пригласил полицейского, одетого в прежнюю форму, которую носил и при фашистах, только на груди были спороты с мундира орлы, держащие в лапах кольцо со свастикой. Когда подали поезд, полицейский с немалым трудом освободил для нас одно купе, многократно повторяя слова: «Russische Vermacht!»
Конец мая или начало июня 1945 года. Мы едем в Берлин. Не помню, сколько мы ехали, но вот поезд подошел к Берлину на вокзал Шпандау. Здание вокзала — в развалинах. Весь район полностью разрушен, улицы завалены щебнем, в середине улицы расчищен проезд. Не у кого спросить, куда нам следует двигаться, мы — в английской зоне оккупации города. Увидели такого же, как и раньше, немецкого полицейского со споротыми фашистскими орлами. Он объяснил мне, выступавшему в качестве переводчика, что русская военная комендатура находится в центре города на площади Александерплац. Туда надо добираться на метро (U-Bahn). Станция единственной восстановленной линии находилась отсюда в нескольких кварталах, туда можно было дойти только пешком.
Пошли, ковыляя и спотыкаясь о куски стен и кучи щебня, часто прибегая к расспросам прохожих. Нашли станцию метро. С трудом втиснулись в переполненный вагон и поехали. В туннеле часто проезжали провалы от взорвавшихся бомб, в которые проникал сверху дневной свет. Приехали на Александерплац, вышли наверх. Кругом много разрушений, но меньше, чем в Шпандау. Здание ратуши с башенкой на крыше с характерным красным фасадом уцелело. На площади перед ратушей — импровизированный рынок. На нем, к нашему удивлению, было полно американских военных, менявших продукты (тушенку и колбасу) на ценные вещи — хрусталь, фарфор, украшения. Видел даже военных в больших чинах, судя по количеству звезд на пилотках.
Встретился патруль из наших солдат в сопровождении офицера. Показали документы. Оказалось, что центральная военная комендатура не здесь, а в части города под названием Лихтенберг. Здесь поблизости был отдел комендатуры, неподалеку от площади. Офицер откомандировал солдата проводить нас туда.
Пришли, предъявили документы. За время пути наши повязки промокли, требовалась перевязка. Попросили направить нас в госпиталь, чтобы это сделать. Нас направили в госпиталь, обслуживавший гражданское население Берлина, пострадавшее от обстрелов и бомбежки. В нем работали немецкие врачи. Здесь нас немедленно приняли и перевязали. На соседнем столе в перевязочной, где мне обрабатывали ногу, лежал пожилой немец, самостоятельно пришедший на перевязку. У него была оторвана нога ниже колена. Культя, опухшая и окровавленная, во многих местах была прострелена осколками.
Глядя на него, мне показалась ничтожной моя почти зажившая рана, не стоившая того времени, которое немецкие врачи были вынуждены на меня потратить.
После перевязки нужно было снова спускаться в метро, чтобы ехать в Лихтенберг. Но неподалеку был виден полуразбитый Рейхстаг. Как же не побывать там? Пришли. Еще невыветрившийся запах гари, стены исцарапаны росписями, теперь часто демонстрируемыми в кинофильмах. Резиновой нашлепкой на конце костыля, оставлявшей черные следы на бетоне, я нацарапал на одном из простенков дату и свое имя.
На метро, в такой же давке, приехали в Лихтенберг. Эта часть города совсем не пострадала. Кругом площади, окружавшей выход из метро, стояли многоэтажные серые дома с целыми стеклами, с вывесками. Почему-то запомнилось название Spaarkasse — не сберкасса ли это?