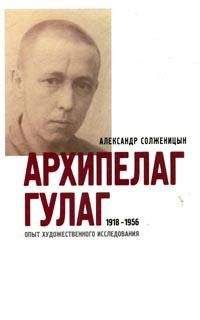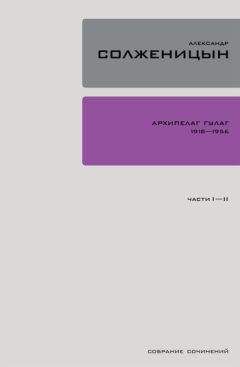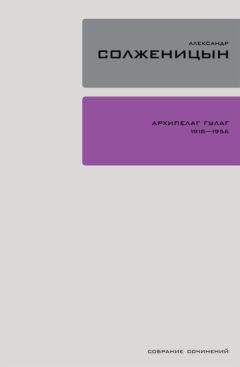Александр Солженицын - Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т. 1
Привели в бутырский вокзал (место приёма и отправки арестантов; название очень меткое, к тому ж главный вестибюль там похож на хороший вокзал), загнали в просторный большой бокс. В нём был полумрак и чистый свежий воздух: его единственное маленькое окошко располагалось высоко и без намордника. А выходило оно в тот же солнечный садик, и через открытую фрамугу нас оглушал птичий щебет, и в просвете фрамуги качалась ярко-зелёная веточка, обещавшая всем нам свободу и дом. (Вот! И в боксе таком хорошем ни разу не сидели! — не случайно!)
А все мы числились за ОСО![77] И так выходило, что все сидели за безделку.
Три часа нас никто не трогал, никто не открывал двери. Мы ходили, ходили, ходили по боксу и, загонявшись, садились на плиточные скамьи. А веточка всё помахивала, всё помахивала за щелью, и осатанело перекликались воробьи.
Вдруг загрохотала дверь, и одного из нас, тихого бухгалтера лет тридцати пяти, вызвали. Он вышел. Дверь заперлась. Мы ещё усиленнее забегали в нашем ящике, нас выжигало.
Опять грохот. Вызвали другого, а того впустили. Мы кинулись к нему. Но это был не он! Жизнь лица его остановилась. Разверстые глаза его были слепы. Неверными движениями он шатко передвигался по гладкому полу бокса. Он был контужен? Его хлопнули гладильной доской?
— Что? Что? — замирая спрашивали мы. (Если он ещё не с электрического стула, то смертный приговор ему во всяком случае объявлен.) Голосом, сообщающим о конце Вселенной, бухгалтер выдавил:
— Пять!! Лет!!!
И опять загрохотала дверь — так быстро возвращались, будто водили по лёгкой надобности в уборную. Этот вернулся, сияя. Очевидно его освобождали.
— Ну? Ну? — столпились мы с вернувшейся надеждой. Он замахал рукой, давясь от смеха:
— Пятнадцать лет!
Это было слишком вздорно, чтобы так сразу поверить.
Глава 7
В машинном отделении
В соседнем боксе бутырского «вокзала» — известном шмональном боксе (там обыскивались новопоступающие, и достаточный простор дозволял пяти-шести надзирателям обрабатывать в один загон до двадцати зэков) теперь никого не было, пустовали грубые шмональные столы, и лишь сбоку под лампочкой сидел за маленьким случайным столиком опрятный черноволосый майор НКВД. Терпеливая скука — вот было главное выражение его лица. Он зря терял время, пока зэков приводили и отводили по одному. Собрать подписи можно было гораздо быстрей.
Он показал мне на табуретку против себя через стол, осведомился о фамилии. Справа и слева от чернильницы перед ним лежали стопочки белых одинаковых бумажонок в половину машинописного листа — того формата, каким в домоуправлениях дают топливные справки, а в учреждениях — доверенности на покупку канцпринадлежностей. Пролистнув правую стопку, майор нашёл бумажку, относящуюся ко мне. Он вытащил её, прочел равнодушной скороговоркой (я понял, что мне — восемь лет) и тотчас на обороте стал писать авторучкой, что текст объявлен мне сего числа.
Ни на пол-удара лишнего не стукнуло моё сердце — так это было обыденно. Неужели это и был мой приговор — решающий перелом жизни? Я хотел бы взволноваться, перечувствовать этот момент — и никак не мог. А майор уже пододвинул мне листок оборотной стороной. И семикопеечная ученическая ручка с плохим пером, с лохмотом, прихваченным из чернильницы, лежала передо мной.
— Нет, я должен прочесть сам.
— Неужели я буду вас обманывать? — лениво возразил майор. — Ну, прочтите.
И нехотя выпустил бумажку из руки. Я перевернул её и нарочно стал разглядывать медленно, не по словам даже, а по буквам. Отпечатано было на машинке, но не первый экземпляр был передо мной, а копия:
Выписка из постановления ОСО НКВД СССР от 7 июля 1945 года[78]
№…
Затем пунктиром все это было подчеркнуто и пунктиром же вертикально разгорожено:
…
Слушали:. Постановили:
Об обвинении такого. Определить такому-то
. -то (имярек, год. (имя рек) за антисо-
рождения, место рож-. ветскую агитацию и по-
дения).. пытку к созданию антисоветской
.. организации 8 (восемь) лет
.. исправительно-трудовых ла-
.. герей.
Копия верна. Секретарь…
И неужели я должен был просто подписать и молча уйти? Я взглянул на майора — не скажет ли он мне чего, не пояснит ли? Нет, он не собирался. Он уже надзирателю в дверях кивнул готовить следующего.
Чтоб хоть немножко придать моменту значительность, я спросил его с трагизмом:
— Но ведь это ужасно! Восемь лет! За что?
И сам услышал, что слова мои звучат фальшиво: ужасного не ощущал ни я, ни он.
— Вот тут, — ещё раз показал мне майор, где расписаться.
Я расписался. Я просто не находил — что б ещё сделать?
— Но тогда разрешите, я напишу здесь у вас обжалование. Ведь приговор несправедлив.
— В установленном порядке, — механически подкивнул мне майор, кладя мою бумажёнку в левую стопку.
— Пройдите! — приказал мне надзиратель.
И я прошёл.
(Я оказался не находчив. Георгий Тэнно, которому, правда, принесли бумажку на двадцать пять лет, ответил так: "Ведь это пожизненно! В былые годы, когда человека осуждали пожизненно — били барабаны, созывали толпу. А тут как в ведомости за мыло — двадцать пять и откатывай!"
Арнольд Раппопорт взял ручку и вывел на обороте: "Категорически протестую против террористического незаконного приговора и требую немедленного освобождения". Объявляющий сперва терпеливо ждал, прочтя же — разгневался и порвал всю бумажку вместе с выпиской. Ничего, срок остался в силе: ведь это ж была копия.
А Вера Корнеева ждала пятнадцати лет и с восторгом увидела, что в бумажке пропечатано только пять. Она засмеялась своим светящимся смехом и поспешила расписаться, чтоб не отняли. Офицер усомнился: "Да вы поняли, чту я вам прочёл?" — "Да, да, большое спасибо! Пять лет исправительно-трудовых лагерей!"
Яношу Рожашу, венгру, его десятилетний срок прочитали в коридоре на русском языке и не перевели. Расписавшись, он не понял, что это был приговор, долго потом ждал суда, ещё позже в лагере смутно вспомнил этот случай и догадался.)
Я вернулся в бокс с улыбкой. Странно, с каждой минутой я становился всё веселей и облегчённей. Все возвращались с червонцами, и Валентин тоже. Самый детский срок из нашей сегодняшней компании получил тот рехнувшийся бухгалтер (до сих пор он сидел невменяемый).
В брызгах солнца, в июльском ветерке всё так же весело покачивалась веточка за окном. Мы оживлённо болтали. Там и сям всё чаще возникал в боксе смех. Смеялись, что всё гладко сошло; смеялись над потрясённым бухгалтером; смеялись над нашими утренними надеждами и как нас провожали из камер, заказывали условные передачи — четыре картошины! два бублика!