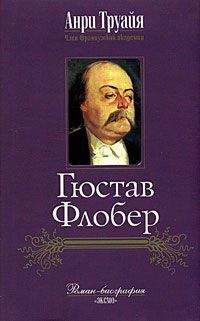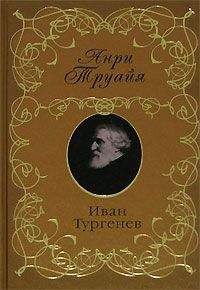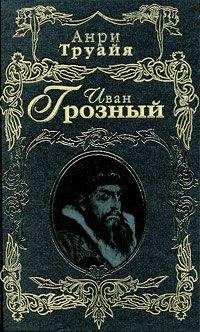Анри Труайя - Ги де Мопассан
Эти симптомы ставили в тупик даже таких медицинских светил, как доктор Бланш и доктор Мерио. Выздоровление представлялось проблематичным. Проведя очередной осмотр больного, Бланш пометил в «Истории болезни»: «Налицо нарушение интеллектуальных способностей, характеризующееся бредовыми концепциями, чаще всего проявляющимися в меланхолической и ипохондрической форме, иногда – в форме мании величия с галлюцинациями и иллюзиями чувств… Болезнь г-на Ги де М(опассана) тяжелая, и еще длительное время не представится возможным сказать, каков будет исход».
В то время как Мопассан сражается в палатах мадам де Ламбаль с осаждающими его призраками, большинство журналистов комментируют его водворение в клинику с нездоровою настойчивостью. Вот, к примеру, высказывание Андре Верворта на страницах «Интрансинжан» от 12 января 1892 года: «Так ли уж необходимо было запихивать Мопассана – лишь затем, чтобы не дать ему нюхать эфир и курить опий – в заведение „трехзвездочного доктора“ (Docteur Trois-ètoiles), создавая ему тем самым большую рекламу? Если даже, благодаря воздержанию, писателю и станет лучше, не пойдет ли все насмарку, когда писатель осознает себя пациентом знаменитого специалиста по душевным болезням?» В прессу просочились и другие сведения; кто публиковал их из жалости, а кто – из вероломства. Опасаясь, как бы они не попались на глаза Мопассану, критик драматургии из «Ревю де Де Монд» Луи Гандера направил доктору Мерио 12 января спешно написанную записку: «Необходимо, чтобы ему (Мопассану) не передавали ни одной газеты, предварительно не изучив ее со всем тщанием, и чтобы в газетах „Фигаро“, „Голуа“ и „Эко де Пари“ было как можно скорее опубликовано сообщение, подписанное доктором Казалисом и содержащее примерно следующее: „Мы с удовольствием узнали, что состояние здоровья мосье Ги де Мопассана день ото дня улучшается. Вчера он попросил газеты и прочел их некоторое количество“. Это никого ни к чему не обяжет. Его не обидит, если он это прочтет, а для журналистов послужит предупреждением, что он в состоянии читать их материалы».
Доктор Анри Казалис пообещал предпринять все необходимые шаги, чтобы болезнь Ги была окутана приличествующим молчанием. Но его опередил Эмиль Готье, который тиснул в «Эко де Пари» 13 января мерзопакостную статью под заглавием «Любители эфира»: «Автор „Нашего сердца“, – пишет он, – разбавлял чернила эфиром, в котором растворился его мозг. Нескольких капель этого дьявольского снадобья, ежедневно вводимого в его кровь, было достаточно для того, чтобы его голова треснула, как перезрелый орех, и превратить чудесного мастера искусств в инвалида, слабоумного, сумасшедшего». Разъяренный Луи Гандера настаивает, чтобы доктор Бланш передал наконец в газеты успокаивающую информацию о здоровье своего знаменитого пациента. Но доктор Мерио, который в то время был истинным заправилой в клинике, воспротивился. Тогда Луи Гандера, игнорируя мнение врачей, помчался в редакцию, и 17 января 1892 года. «Голуа» опубликовал следующее: «Мосье Ги де Мопассану много лучше. Он в курсе всего, что происходит. Он читает газеты».
Лора де Мопассан сгорала со стыда при виде всей этой возни вокруг сына. Она кричала на всех перекрестках, что Ги не сумасшедший, что в семье вообще не было ненормальных и что даже Эрве был здрав рассудком. И супруг ее, Гюстав де Мопассан, находившийся в Сент-Максиме, не без рвения подтвердил эту информацию в письме к неизвестному адресату: «Мой сын Эрве имел досадную привычку работать в саду на солнце и непокрытой головой. Три года назад он страшно перегрелся, не смог отойти и умер несколько месяцев спустя. Эта смерть была совершенно случайною».
Как бы там ни было, в литературных кругах усердно чесали языками. Большинство собратьев Мопассана по перу, притворяясь, что сожалеют о несчастии Ги, на деле только радовались. Еще бы, ведь одним конкурентом – и какого масштаба! – меньше! Ну как тут не взыграть стадному чувству злой радости? Октав Мирбо холодно заявил Клоду Моне: «Мопассан никогда ничего не любил – ни своего искусства, ни одного цветочка, вообще ничего! Справедливость вещей сразила его!» Эдмон де Гонкур перещеголял Мирбо на страницах своего дневника: «(Возымел место) разговор о шуме вокруг Мопассана, который находят слишком громким, соразмеряя с истинной ценностью этого писателя… Кто-то сделал грустное замечание, что у Мопассана нет близкого друга; близким другом у него был только его издатель Оллендорф» (Дневник. 10 января 1892 г.). Накануне, еще не зная о том, что ждет Мопассана, Гонкур вычеркнул его из списков своей будущей Академии.
Затворившись в своих конфузных раздумьях, Ги безропотно позволял своему камердинеру, который приходил каждый день, и санитару по имени Барон ухаживать за собою. Лора вменила в обязанность Тассару регулярно информировать ее в письменной форме о состоянии сына. Сама же она, по ее собственным словам, была слишком обессилена, чтобы приехать в Париж. Если верить мадам Мопассан, ее здоровье требовало такого же ухода, как и здоровье самого Ги. Этот момент истолковывался друзьями писателя по-разному. Одни готовы были поверить, что она и впрямь слишком болезненна, чтобы пуститься в путь, другие – а таковых было большинство – готовы были обвинить ее в бесчувственности и эгоизме. Правда, по-видимому, расположена между сими двумя крайностями. Будучи уже много лет неисправимой ипохондричкой, Лора не решалась покинуть свое пристанище в Ницце, и сама перспектива увидеть своего сына обезумевшим повергала ее в ужас. Как она ни призывала свое истерзанное чувство материнства, она ни секунды не думала о том, чтобы пуститься в путь. «Я стара и очень больна, а наркотики, которые я пью целыми стаканами, окончательно доканывают мою способность мыслить».
В одно прекрасное утро, когда Франсуа Тассар писал письмо матери, мадам де Мопассан, в комнате больного, этот последний набросился на него и прорычал: «А, так это вы заняли мое место в „Фигаро“! Прошу вас немедленно убраться! Я не желаю более вас видеть!» Ошеломленный, со слезами на глазах, Тассар спросил совета у Бланша. Тот покачал головой и вздохнул: «Как раз этого я и опасался!»
Но Ги уже успел позабыть упреки в адрес своего верного слуги. Им внезапно овладела очередная мистическая химера, и он изрек буквально следующее: «Вчера после полудня Господь провозгласил с высоты Эйфелевой башни на весь Париж, что мосье де Мопассан – сын Бога и Иисуса Христа!» И далее заявляет буквально следующее: его миссия на земле столь важна, что он долее не может терпеть преследований со стороны врачей: они ожидают в коридоре, чтобы вколоть ему морфий, капли которого прожигают дырки у него в мозгу. Мало того, слуга прикарманил 600 000 его франков. Но что более всего нагоняет ему тоску, так это то, что он распространяет сильный запах соли, что возбуждает парижан против него. Ему также нужно позаботиться о могиле своего брата Эрве, с которым он ежедневно разговаривает; покойный просил расширить ее. Он несколько раз изгонял Франсуа Тассара из своей комнаты под тем предлогом, что тот обкрадывает его, а может быть, даже хочет убить. Зато соглашается принять у себя нескольких посетителей. Перед ним последовательно дефилируют сочувствующие месье, которых он едва узнает, – доктор Казалис, доктор Гранше, мосье Жакоб, Альбер Каэн и другие. Все разговаривают с ним ласково, а он в ответ держит перед ними такие бессвязные речи о «странствующей медицине», что им ничего не оставалось, как ретироваться в удрученном состоянии.