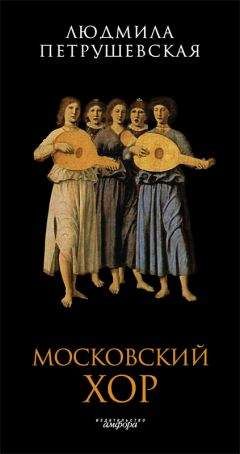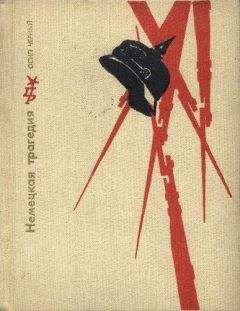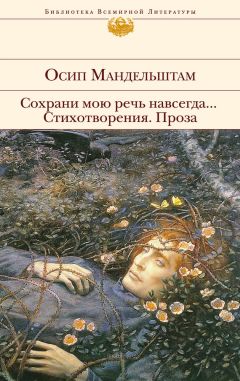Осип Черный - Мусоргский
– Без этого жить невозможно, дедушка.
Петров прищурился и задумчиво покачал головой. Сегодня, после удара, он был настроен невесело.
– Трудно без этого, да, но капля здравого смысла, как в драгоценном сплаве лигатура, нужна. Ты так горячо требовал одного только чистого, что, видя грязь, не сумел уберечься. Не честность свою не сберег, а стойкость… – Видя, что Мусоргский хочет что-то возразить, Осип Афанасьевич опередил его: – Я тебе, Моденька, не судья, я твою душу вижу. Но мне, как и Дарье Михайловне, больно, что такой огромный талант не все дает нам, чего мы от него ждем.
– К чему работать? – горько ответил Мусоргский. – Вот с вами по-гадкому поступили, моего «Бориса» отставили – и так повсюду.
– Я все-таки не сдаюсь и не сдамся, – сказал Осип Афанасьевич. – Я по-прежнему всею душой с вами. Вот принес бы что-нибудь свое, я бы, хоть и горько мне, стал петь с тобой.
Мусоргский с грустью признался, что нового за последнее время ничего не создал.
VIII
На службе дела шли все хуже. Если бы кое-кто из начальства не знал, что за одним из столов сидит не просто писец-чиновник, а знаменитейший музыкант, дело давно кончилось бы увольнением: находились любители сочинять приватные рапорты, в которых сообщалось, что вчера Мусоргский опять отсутствовал, а на прошлой неделе просидел в задумчивости полдня, не приступая к делам.
Начальство приберегало такие рапорты до случая. Прочитав, оно вздыхало и предавалось размышлению о том, как беспутен все-таки русский человек: службу имеет, музыку своего сочинения ставит в театре, все блага государственные ему предоставлены, а он вместо благодарности неглижирует.
Однажды Мусоргского, когда он сидел за своим столом, позвали к начальнику департамента.
Он чуть было не запутался в поворотах коридора, которые до сих пор плохо знал.
В приемной пришлось прождать долго. Из окна видны были две осины с толстыми стволами. Листья на них после недавнего дождя чуть-чуть распустились и были нежно-зеленые. Зрелище это почему-то утешило Мусоргского, и он представил себе покой деревенской жизни.
Секретарь, выйдя из кабинета начальника, сказал:
– Пройдите-с.
Начальник, массивного сложения человек, хорошо подходил к мебели кабинета: он был тяжеловесен и грузен. Вид у него был весьма озабоченный, и на вошедшего он не взглянул. Мусоргский подождал, затем без приглашения опустился на стул. Начальник с удивлением поднял глаза и увидел большие, немного выпуклые глаза, смотревшие на него, бледное полное лицо, мягкую бороду, в которой серебрилась седина. Перед ним сидел человек чуть обрюзгший, одутловатый и, видимо, страдавший одышкой, но в выражении лица его было достоинство и благородство.
Решив, что в том обычном тоне, в каком он разговаривает с подчиненными, лучше объяснения в данном случае не вести, начальник выбрал тон покровительственно-озабоченный.
– Господин Мусоргский, я имею основания быть вами недовольным, – начал он и, подождав, добавил: – До меня дошли не вполне благоприятные для вас отзывы. Как прикажете поступить?
Мусоргский промолчал.
– Я имел бы полное основание предложить вам подать в отставку. – На лице его появилось подобие улыбки. – К несчастью, я сам до некоторой степени любитель музыки. Ваша деятельность на этом поприще мне известна. Я полагаю, главное свое начертание вы еще выполните, когда придете в соответствующий возраст. В искусстве, надо думать, зрелость, как и на поприще государственном, приходит поздно. Мне не хотелось бы, чтобы судьба той или иной песни, которую вы сочините, зависела от того, насколько милостиво к вам начальство. Я иду поэтому на акт благосклонности… О чем вы сами хотели бы меня просить, господин Мусоргский?
– Я должен поблагодарить ваше превосходительство. Вы, видимо, понимаете, что на любой службе существуют обстоятельства, которые трудно сочетать с музыкальной деятельностью.
Начальник посмотрел на него неодобрительно: он ждал благодарности подчиненного и не предполагал выслушивать его рассуждения.
– По мере возможностей я старался сочетать одно с другим, – продолжал Мусоргский, – но бывали у меня и упущения.
Начальник кивнул, поощряя такое отношение к собственным ошибкам.
– Упущения, и притом немаловажные, – добавил он.
– Если возможно, я просил бы о предоставлении отпуска на летние месяцы. Быть может, несколько укрепив свое здоровье и занявшись вновь сочинением, я сумею более рачительно относиться к своим обязанностям по службе.
Начальник молча смотрел мимо Мусоргского, видимо, занятый важными государственными мыслями.
Он произнес:
– Я подумаю. Подавайте рапорт по начальству.
IX
Мусоргский поселился в деревне. Тихая петербургская мягкая природа, нежные краски и прозрачность воздуха, восходы, которые он встречал где-нибудь на крылечке, и закаты, которые он провожал то у ручья, то на лесной прогалине, принесли его душе покой. До сих пор Мусоргский был так полон мыслями о человеке, так поглощен его внутренней жизнью, прикован к его думам, что для созерцания внешнего мира оставалось места немного. А тут природа, тихая, скромная и гармоничная, явилась перед ним, как когда-то в детстве.
Утром, напившись свежего молока, Мусоргский уходил гулять. Крестьяне, встречаясь с ним, снимали почтительно картузы.
– Здравствуй, барин, – говорили они.
Потом, почувствовав, что он хоть и барин с виду, но какой-то при этом другой, стали величать его по имени и отчеству:
– Здравствуй, Модест Петрович.
Поглядывали на него с некоторым удивлением. Мусоргский был так прост и доступен, как будто в голове у него не все ладно: ни барства, ни строгости, ни важной осанки. Он очень любил гулять с ребятишками. Стоило им увидеть его, как они бежали навстречу. Как ни сложны были мысли Мусоргского, но с детьми, будь это в семье Дмитрия Стасова или же с деревенскими, у него складывались добрые и равные отношения. То, что он рассказывал детям, похоже было на импровизации, но казалось очень правдивым и захватывало их.
В это лето Мусоргский сильно продвинулся и в «Хованщине» и в «Сорочинской». Лето прошло мирно и ясно.
Но, вернувшись в Петербург, он попал в прежние условия. Теперь, кроме шестаковского, один дом у него оставался, где на него не косились и не спрашивали, почему он так беспорядочно, непутево живет. Осип Афанасьевич, отягощенный собственной бедой, отставленный от дела, которому отдал всю жизнь, понимал страдания человека, который идет не в ногу со временем и которому трудно дышать.
Мусоргский знал, что его здесь любят. Он мог сидеть и подолгу молчать. А то Осип Афанасьевич начинал при нем вспоминать прошлое: Глинку, свои скитания по Украине с водевильной труппой, провинцию и театр.