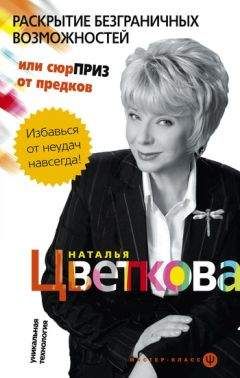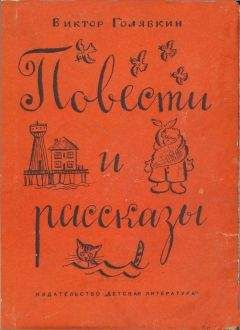Борис Панкин - Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах
– Дядечка, ты бы другое место нашел. – Почти слово в слово повторяется только что имевший место диалог. Женщина в возмущении и изумлении захлопывает окно.
Странный человек, явно довольный собой, высыпает из ведра пепел и остатки обуглившейся бумаги и уходит не прощаясь.
Направляясь к жилью Троепольского, стараемся в эту жаркую полуденную пору держаться в тени огромных старых лип, которыми засажена ведущая к его дому улица. Кажется, что он знает «в лицо» каждую из них, во всяком случае, те, что больны и как-то повреждены. Вот, например, одну, тужит он, задело совсем недавно автобусом, который развернули в неположенном месте.
Продолжается и знакомство с аборигенами. Недалеко от дома обгоняем двух, видно, уже «пообедавших» мужчин в белых, далеко не первой свежести прозхалатах. Один что-то оживлено и с чувством превосходства человека, в чем-то твердо уверенного, втолковывает другому, кивая в сторону моего спутника. И, уже пропустив было нас вперед, обращается к Деду как к знакомому:
– Вы извините, товарищ Троепольский, ваша собачка, вы писали, какой породы будет?
– Английский сеттер, – неохотно отвечает Гавриил Николаевич, отнюдь не польщенный таким подтверждением собственной популярности.
– Гуляете, стало быть, с такой же. Тоже Бимом кличут?
– Лель, – роняет Троепольский и ускоряет шаг.
– Я читал, – говорит первый «халат» второму. – Они написали «Бим». С жизни, стало быть?
Троепольский тянет меня за рукав, а у меня мелькает, что, если бы халаты были почище, тут и камера моих операторов не помешала бы. Поди угадай, где найдешь, где потеряешь.
В подъезд дома послевоенной постройки, где он живет, – вход со двора. Сюда выходят черные ходы продовольственных магазинов. Шум и характерный, словно просоленной рыбой, запах. Дед ожесточенно стучит тростью по асфальту.
– Собственного производства? – спрашиваю, вспомнив, что мне говорил Федор Абрамов об этом увлечении его старшего коллеги.
– Да нет, подарок. К юбилею, который два раза справляли. Три трости, как сговорились, подарили. Первый признак, что окончательно меня за старика посчитали.
Мы входим в подъезд и начинаем подниматься на четвертый этаж его дома без лифта.
– Ничего, – успокаивает он то ли меня, то ли самого себя. – Это нам с Лелем вместо зарядки.
Лель – первое, что бросается в глаза после того, как чья-то невидимая рука открывает нам по звонку обитую дерматином дверь. Белый сеттер, только без черного уха. Белый или седой?
Собака стара. Это видно и неспециалисту. Поступь тяжелая. Шерсть на исхудавшем теле висит длинными серо-белыми косицами.
– Это у нас вторая. Взяли сразу после того, кого Бимом назвали. После гибели его, – говорит Троепольский и чешет Леля за ухом, предоставляя мне самостоятельно знакомиться с его довольно-таки многочисленной семьей. По очереди жму руку жене, сухонькой и легкой на взгляд, как одуванчик. Дочерям. Старшая – спокойная, положительная. Младшая живее, экспансивнее… А Дед все треплет и треплет за ушами улегшегося у его ног Леля.
– Год назад еще собака была бодрая. Но охотиться с ней лучше, чем с молодой. Дело знает и в сторону не бегает, держится рядом.
В маленькой, к тому же еще переполненной сейчас и гостями и родней, прибывшей на подмогу хозяйке, квартире одно есть, по словам Троепольского, сравнительно тихое место, его кабинет, куда мы втроем, он, Лель и я, и отправляемся. «Белый Бим Черное Ухо» по статистике ВААПа – рекордсмен по изданию за рубежом. Не соблазнительно ли высыпать на экран, буквально как карточную колоду, десятки красочных обложек этой книги на всех языках – от английского до суахили? Вон их – целая полка.
Здесь же с удовольствием обнаруживаю папку с вырезками из газет и журналов на разных языках – рецензии, отклики на издания «Бима». Догадываюсь, что это работа нашей пресслужбы. Она же обеспечила автора переводами публикаций на русский язык.
«В романе описана захватывающая история одной собаки, в то же время он заставляет читателя необычным, но убедительным образом задуматься о собственной жизни». Вот еще: «Это лаконичное, близкое к действительности, порой ироническое, но проникнутое духом большой человечности произведение…»
Листаем вместе страницы этого внушительного досье. Нет недостатка в щедрых комплиментах автору: «Книга вполне может занять место рядом с „Холстомером“ Толстого».
Но Деда, кажется, больше привлекает другое. Он желтым своим от курения указательным пальцем водит по строкам перевода из шведской газеты. Автор рецензии представляет бедолагу Бима своего рода диссидентом, не способным ужиться с коммунистическим режимом, в результате чего он после многих мытарств оказывается в руках «полиции» и в конце концов теряет свою голову на живодерне.
– «Белый Бим»? Он семь месяцев в цензуре томился. Красный карандаш над ним висел… – словно бы ненароком бросает Троепольский и подталкивает меня к другой полке.
Здесь первые издания его «Записок агронома», «Прохора Семнадцатого», голубые тетрадки «Нового мира» той поры с автографами Твардовского. Ему не нравится, вспоминаю я прежние наши разговоры, что все, словно бы сговорившись, твердят об одном «Белом Биме».
Вот и тот прохиндей из АПН написал, переврав Якименко, что, мол, в творчестве Троепольского было два взрыва. «Записки агронома» и «Бим». А остальное – творческий простой.
Сейчас он вспоминает, что крестным его отцом в литературе был Трифонович, как он его почти по-сыновнему называет, хотя и родился раньше Твардовского.
С неостывшим еще и сегодня раздражением говорит о каком-то недавно опубликованном письме Овечкина редактору «Нового мира», в котором тот рекомендовал воздержаться от публикации «Короля жестянщиков».
Ворчит и, в паузах наклонясь, треплет Леля.
– Тринадцать лет, – замечает вздыхая. – Мой возраст. Четыре собачьих года – это двадцать пять наших.
Сам того, быть может, не замечая, Дед смотрит в Леля как в зеркало.
Собака действительно стара. Все время прилаживается улечься у его ног и заснуть. Моментально, однако, просыпается, стоит только хозяину пошевелиться.
Собака, видимо, больна. Нос ее, которому по всем собачьим законам полагается быть комком антрацитово-черной, важно поблескивающей кожи, больше похож на кусок древесного угля, на который, чтобы его загасить, плеснули водой. Тусклый черный цвет. Пористая взрытая поверхность. Под одним глазом выросла и висит на паутинке века, словно кожаный шарик, бородавка.
Троепольский смотрит на Леля и, быть может, видит в нем Бима, такого, каким тот был, когда он писал «с него», много-много лет назад, свою пока последнюю, но уже ставшую классикой повесть. Я же смотрю на Троепольского, притомившегося за жаркий день, и вижу Гаврилу, который в шляпе, молодецки сдвинутой набекрень, встретил меня утром на вокзале. И еще вижу фильм, но не тот, за которым приехал, а большой, настоящий. Который, может, никогда и не появится. Фильм о счастливом человеке, который сам не ведает о своем счастье.
![Дарья Ардеева - Запретные территории [СИ]](/uploads/posts/books/77022/77022.jpg)