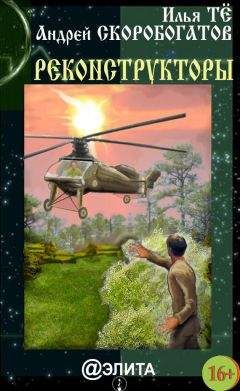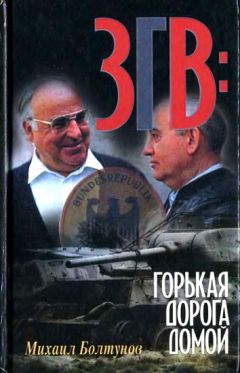Николай Степанов - Гоголь
А гость, уютно развалясь на потертом хозяйском диване, вспоминал давно прошедшие лицейские годы и жаловался на неурядицу с его любимым детищем.
Николай Яковлевич близоруко щурился, смущенно мычал и поддакивал другу. Да, цензура воистину осатанела, говорил он. Его приятель критик Белинский, который так высоко ценит произведения Гоголя, вынужден чуть ли не каждую свою статью исчеркивать и переписывать заново!
Прокопович и сам продолжал изредка в свободное время пописывать стихи, которые, однако, очень редко появлялись в печати. Он с неизменным энтузиазмом следил за творчеством своего однокашника и нередко беседовал о нем с Белинским. Встревоженный жалобами Гоголя, он заверил его, что будет рачительно помогать прохождению «Мертвых душ» через цензуру, но на успех не очень надеется.
Разговор коснулся расстроенных дел Гоголя.
— Милый мой Никола, — сказал нерадостно Гоголь. — Я так устал от дел, от тревог душевных и телесных, от болезни своей, припадки которой теперь сильнее, что ни на какое новое дело у меня руки не поднимаются! А кругом нужны деньги и деньги! Для поездки за границу, для маменьки и сестриц в Васильевке, для уплаты долгов!
Прокопович печально морщился и кивал головою.
— Слушай, Николай Васильевич! — вдруг сказал он бодрым голосом. — Вот ты все жалуешься, а сам можешь разбогатеть! Почему тебе не издать собрание своих сочинений? Ведь наберется уже томов пять. Читатели тебя любят, книги твои давно разошлись — самое время!
Гоголь задумался и, отмахнувшись слабым движением рук, стал говорить, что у него нет ни сил, ни желания приниматься за столь тяжелое и хлопотливое дело. Хватит с него забот и неприятностей с «Мертвыми душами».
Прокопович продолжал настаивать. Он готов взять все хлопоты на себя. Он достанет бумагу, сговорится с типографией, сам будет ходить в цензуру. Для Гоголя не будет никаких забот.
После чая друзья внимательно обсудили план издания. Оно должно выйти в четырех томах: в первом — «Вечера», во втором — «Миргород», в третьем — повести, а в четвертом — драматические произведения.
Гоголь пообещал прислать Прокоповичу даже то, что им еще не напечатано или не закончено. Он передавал другу все полномочия на ведение этого издания:
— Пожалуйста, поправляй меня везде с такою же свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где частое повторение одного и того же оборота периодов, дай им другой и никак не сомневайся и не задумывайся, будет ли хорошо, — все будет хорошо.
Они обсудили вопрос о формате издания, качестве бумаг», о чем Гоголь особенно беспокоился, и расстались запоздно. Гоголь обещал присылать из Москвы просмотренные им материалы для своих сочинений.
В Москву Гоголь ехал в одной карете со знакомым Аксакова чиновником Пейкером, который очень обрадовался, узнав из подорожной, что едет вместе со знаменитым писателем. Но в дороге Гоголь надвинул на голову необъятный воротник своей шинели и уверил Пейкера, что он вовсе не Гоголь, а Гогель. Он рассказал преплачевную историю о том, как остался сиротою, и, разжалобив легковерного Пейкера, завернулся в шинель и во всю дорогу больше не сказал ни слова. Лишь по приезде в Москву недоразумение выяснилось, к великой обиде его попутчика.
Москва оставалась по-прежнему такой же близкой, домашней, простецкой. Пестрота и бестолковая скученность московских улиц, ясность осенних дней, радостный перезвон колоколов — все это казалось Гоголю добрым предзнаменованием в осуществлении того великого дела, ради которого он приехал в Россию.
Он опять остановился у Погодина и занял ту же комнату на галерее, которую занимал в прошлый приезд. Большую, светлую, с двумя окнами и балконом, обращенным на восточную сторону.
Многочисленное семейство Аксаковых также встретило Гоголя с прежней любовью. В шумной тесной квартире Аксаковых было уютнее и свободнее, чем в обширных апартаментах Погодина, там всегда продувал какой-то холодок. Аксаковы ничего не требовали от Гоголя, тогда как Погодин неизменно имел на него какие-то виды, а теперь, приступив к изданию «Москвитянина», и вовсе стал настойчив, домогаясь, чтобы он давал материалы для журнала.
Аксаковы огорчались переменой, происшедшей за этот год с Гоголем. Он сильно похудел и побледнел после болезни и казался каким-то надломленным. Стал молчаливее, сосредоточеннее, утратил былую жизнерадостность. Все реже и реже слышались его шутки. Он полностью был поглощен мыслью об издании «Мертвых душ». Пока поэма переписывалась, Гоголь прочел последние ее главы Аксаковым и Погодину. Чтение состоялось в доме Погодина, так как писатель не хотел, чтобы кто-нибудь слышал их, кроме самых близких людей. Он опасался предварительных разговоров и слухов, которые могли бы затруднить прохождение поэмы через цензуру.
Выслушав заключительную главу, Сергей Тимофеевич и Константин благоговейно молчали. Они не считали себя вправе нарушать величие момента. Им было ясно, что они присутствовали при рождении гениального произведения.
Погодин, однако, шумно выразив свое восхищение, стал поучать Гоголя скрипучим, деревянным голосом. Он считал, что сюжет поэмы в первом томе не движется, стоит на месте.
— Ты, любезный Николай Васильевич, выстроил длинный коридор, по которому ведешь читателя и отворяешь двери направо и налево, показывая сидящего в каждой комнате урода!
— Никакого коридора нет, — негодующе возразил Сергей Тимофеевич. — Содержание поэмы идет вперед, потому что Чичиков ездит и скупает мертвые души…
Однако Гоголь попросил Погодина продолжать и даже сказал недовольно Аксакову:
— Сами вы ничего не замечаете и другому замечать мешаете.
Сергей Тимофеевич обещал отметить свои замечания на экземпляре рукописи, так как со слуха он не замечает мелочей.
Когда Аксаковы ушли, Погодин стал настоятельно просить Гоголя дать ему материал для журнала.
— Твое сотрудничество непременно расширит круг читателей. А то я разоряюсь! Выручай! Теперь самое время поддержать журнал эффектными статьями.
— Грех, тяжкий грех отвлекать меня от моего труда, — с сокрушением отвечал Гоголь. — Я умер теперь для всего мелочного. И что поможет журналу моя статья?
В конце концов он вынужден был подчиниться резонам Погодина и передал ему для журнала незаконченную повесть «Рим».
Согласие было восстановлено. Но, как казалось Гоголю, Погодин сильно изменился. Он стал жестче, честолюбивее. С ним трудно было договориться, так как его поглотили дела по журналу и заботы о карьере. Незадолго до приезда Гоголя министр народного просвещения граф Уваров, тот самый, которого так беспощадно высмеял в своих стихах Пушкин, предложил Погодину переехать в Петербург и стать директором канцелярии министра народного просвещения.