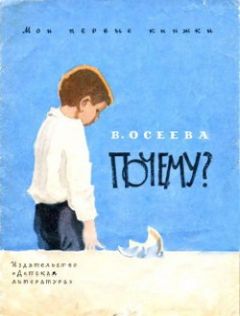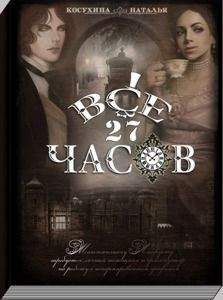Чеслав Милош - Азбука
В университете Стомма, член католического «Возрождения» и католический публицист, избрал свою линию, которой придерживался в течение всей последующей жизни. Католичество никогда не сочеталось у него с правизной, что случается довольно редко. Тем не менее наши пути разошлись из-за моих еретических и левацких исканий и заблуждений. Однако я всегда — и тогда, и во все послевоенные годы — втайне восхищался им, о чем он, вероятно, не знает. Я считал его разумным человеком, себя же — психопатом. И разве не признал я правоту Гомбровича, когда он сказал о моей жене Янине: «Как могла такая разумная женщина выдержать с таким психопатом?»
Левацкая направленность «Жагаров» возникла не без помощи «перебежчиков» из школьного «Пета». Одним из самых активных его членов был Дорек Буйницкий. Дорек, знаменитейший поэт виленских гимназий, был везде: и в Клубе бродяг[442], и в Секции оригинального творчества при Кружке полонистов, и в «Жагарах», — так что «жагаристов» с таким прошлым было двое. Впрочем, большинство «петовцев» придерживалось той же линии, что и Стомма, — католичества, не связанного с «национальной идеологией». Таковы были две наши набожные приятельницы, светила классической филологии Леокадия Малунович и Анаконда, то есть Зофья Абрамович, дочь главного виленского «крайовца». Приблизительно таким был, по-моему, и Плюмбум, то есть Юзеф (брат Игнация) Свенцицкий, журналист, погибший в Воркуте.
Возвращаюсь к Кейданскому повету. Во времена советской оккупации он очень пострадал от коллективизации и репрессий. Как мне говорили в Кейданах, депортировано было около половины населения. Я страшно переживал из-за доходивших до меня вестей о том, что творилось в окрестностях места моего рождения, о вывозе в Сибирь целых деревень, и старался сообщать западному общественному мнению о своих чувствах — даже тогда, когда упоминание о балтийских государствах считалось бестактностью. Думаю, что этим страницам своих книг я и обязан титулом почетного гражданина.
Небольшая Литва экспортировала свои таланты в Польшу, как Ирландия в Англию. Что бы литовцы ни думали о Пилсудском, он был сыном Литвы, как и первый президент возрожденной Польши Габриэль Нарутович. Тот, кто прославился за пределами своей страны, так или иначе принадлежит местам, откуда он родом. Станислав Стомма стал одним из самых выдающихся людей Польши — внутренне свободной, несмотря на внешние террор и порабощение. Осмелюсь утверждать, что такого политика не было ни в одной другой стране советского блока. Его дар вникать в аргументы мыслящих иначе и отсутствие каких бы то ни было шовинистических инстинктов позволили ему способствовать улучшению отношений Польши с соседями: с Германией, а также с Литвой. К тому же он никогда не отрицал, что в детстве формировался под влиянием литовской деревни, а в школьной и университетской юности — под влиянием Вильно.
Сторм Джеймсон, МаргаретИзвестная английская романистка и деятельница ПЕН-клуба. Мы познакомились в Кракове весной 1945 года, когда она приехала туда с Антонием Слонимским и Ксаверием Прушинским. Потом я встречался с ней и ее мужем в Англии и во время их визита в Америку. Ее муж, Ги Чапмен, скромный и молчаливый, скрывал под этой маской прошлое героического офицера окопной войны, то есть человека, который удивлялся, что выжил, в то время как его товарищи погибли. Он был профессором истории в Кембридже. Маргарет, происходившая из семьи капитанов дальнего плавания, обладала всеми добродетелями своих предков. Она была смелой, благородной, бескомпромиссной, не любила говорить о себе и даже отказывала себе во всех достоинствах, оправдывая тот факт, что писала романы, нуждой в деньгах — поскольку дети и внуки постоянно впутывали ее в финансовые проблемы. Когда-то ее романы пользовались большим успехом, но в конце ее долгой жизни почти никто не знал ее имени.
Она и Ги были для меня представителями великой и прошедшей тяжелые испытания Англии, погибшей в гекатомбе Первой мировой.
Еще раз возложить на себя обязанность, уничтожившую поколение их отцов? Не приходится удивляться, что англичане делали все возможное, чтобы избежать войны с Гитлером.
СтрахЛюбопытно, что главный житель Европы двадцатого века, страх, так и не стал предметом серьезного анализа. Может быть, потому, что никто не хотел возвращаться к унизительным переживаниям — а страх унизителен. Впрочем, существует множество его видов, и о каждом следовало бы говорить отдельно.
Страх на войне — вопрос героизма. Все солдаты боятся, но лучшие из них преодолевают страх силой воли. Наш человеческий род расточителен: он постоянно производит на свет детей, которые занимают место погибших. Однако можно задаться вопросом, не слишком ли много он теряет, когда столько мужественных людей лежит в земле? И эти поля, покрытые телами героев, которые пали в боях против других, таких же храбрых, как они, — миллионов немцев, французов, англичан, поляков, украинцев, русских — не заставляют ли они задуматься, как влияет на живых потеря лучших генов? На это обратил внимание Ежи Стемповский, утверждавший, что Европа после Первой мировой войны была бы другой, если бы ее потенциальные лидеры из Франции, Германии и Англии не погибли в великой гекатомбе.
Иным был повседневный страх в стране, управлявшейся сталинским или гитлеровским режимом. В 1940 году в Вильно я изведал его лишь немного, но все же достаточно, чтобы из разговоров и рассказов воссоздать ужас ожидания их визита под утро. В лагеря вглубь России вывозили целые категории населения — по спискам, составлявшимся не без участия местных доносчиков, или индивидуально, после ареста и «приговора». Если бы в июле 1940 года я не бежал из Вильно, не думаю, что у меня хватило бы смелости отказаться писать в «Правду виленскую», — что некоторым образом предполагалось, ибо мои товарищи из «Жагаров» оказались там. Как их осуждать, если вывоза люди боялись больше, чем смерти? Такой же великий страх во Львове был описан Александром Ватом, который работал в «Червоном штандаре»[443], местном аналоге «Правды виленской». Принадлежность к послушной элите немного смягчала страх перед массовой облавой, но не смягчала страха перед наказанием за малейшую ошибку или неблагонадежность. Публиковавшийся в «Правде виленской» Леопольд Тырманд получил пятнадцать лет, но его не вывезли, потому что железнодорожники отцепили паровоз, а это был день немецкого нападения, — так он спасся.
Страх парализует и, наверное, мешает действовать. Путешествие из Вильно в Варшаву через четыре «зеленые» границы было очень опасным, и, пожалуй, я не доехал бы до конца, если бы боялся. Я совершил над собой некое особое (безумное) усилие, которого до сих пор не могу понять, заключавшееся в своеобразном взятии страха в скобки. Он был, но я его себе запретил. Зофья Рогович, с которой я шел, впоследствии очень лестно отзывалась о моих храбрости и находчивости, а меня это смущало, поскольку я знал, что, хотя и заслужил в той передряге ее похвалу, ни храбрым, ни находчивым никогда не был.