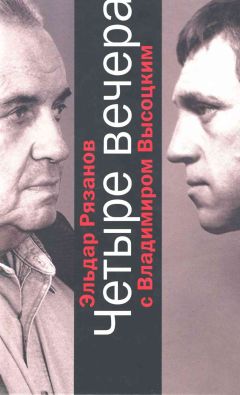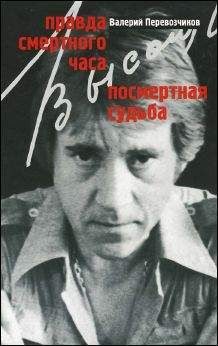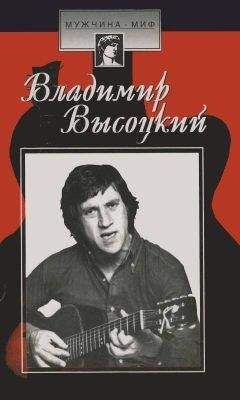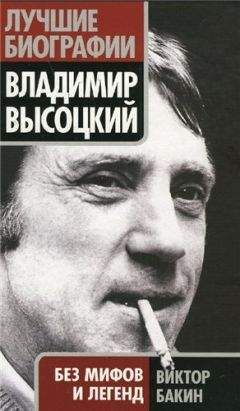Анатолий Левандовскнй - Максимилиан Робеспьер
— Как банальный примиритель, ты все свои речи на трибуне начинал громовым треском, а заключал сделками между правдой и ложью… Ты ко всему приспособлялся!.. — Трудно было более меткими словами охарактеризовать основу политической линии Дантона.
Конец большой речи Сен-Жюста был страшным предостережением для тех, кто не понимал остроты переживаемого времени.
— Дни преступления миновали; горе тем, кто стал бы поддерживать его! Политика преступников разоблачена; да погибнут же все люди, бывшие преступными!
Республику создают не путем слабости, но свирепо строгими, непреклонно строгими мерами против всех повинных в измене!
Собрание выдало потребованные головы. Партия в Конвенте была выиграна.
Оставалось разыграть последнюю часть страшной игры: партию в Революционном трибунале.
Конечно, процесс Дантона был в той же мере политическим процессом, как и дело Эбера. Конечно, тут, как и там, судьба обвиняемых была решена заранее, и приговор им уже давно составили и подписали. По существу, Революционному трибуналу надлежало только исполнить то, что было решено правительственными Комитетами и санкционировано Конвентом. И все же провести процесс дантонистов казалось делом гораздо более сложным, нежели отправить на гильотину Эбера и его сторонников. Здесь был налицо прежде всего сам Жорж Дантон, человек страстный, яркий, талантливый и не знавший страха, трибун, который пользовался славой одного из самых видных деятелей и ораторов революции. Здесь был горячий и неровный, но способный и едко-остроумный Камилл Демулен. Здесь был хитрый и коварный Фабр д’Эглантин, были и другие деятели, искушенные в политической интриге и ораторском красноречии. Убить таких людей было можно, но заставить их молчать перед смертью представлялось значительно более трудным. Это предвидели Робеспьер и Сен-Жюст, своевременно принявшие все меры к тому, чтобы помешать превратиться процессу в арену жестокой борьбы. И тем не менее они оба, равно как и другие члены Комитетов, сильно опасались за ход судебных заседаний.
Чтобы облегчить задачу прокурора Фукье-Тенвиля, который должен был бить обвиняемых сразу по многим пунктам и статьям, здесь, как и в процессе эбертистов, составили своеобразную «амальгаму», объединив в целое несколько отдельных группировок по различным обвинениям. В главную «политическую» группу входили Дантон, Демулен, Филиппо, Эро, Делакруа и Фабр д’Эглантин. Через Фабра эта группа связывалась с мошенниками — Шабо, Базиром и Делоне; через Эро де Сешеля, который был одинаково близок и к дантонистам и к эбертистам, их объединяли с «ультрареволюционерами» как одну из группировок единого заговора; наконец, через Дантона и Шабо всех подсудимых сближали с подозрительными иностранными банкирами — братьями Фрей и Гузманом, что придавало заговору «иностранную» окраску. Кроме того, на процессе фигурировали делец и аферист, поставщик д’Эспаньяк, а также генерал Вестер-ман, замешанный во все интриги Дюмурье и Дантона и имевший репутацию отъявленного грабителя и вора. Таким образом, комплект обвиняемых был хорошо подобран, и можно было приступать к делу.
В ночь с 12 на 13 жерминаля Дантона, Демулена, Делакруа и Фабра перевели из Люксембургской тюрьмы в Консьержери, непосредственно в ведение Революционного трибунала. В тюрьме подсудимые, размещенные по одиночным, но смежным камерам, вели себя каждый соответственно своему нраву и темпераменту. Демулен, переходивший от надежды к отчаянию, писал письма своей дорогой Люсили, орошая их слезами; Делакруа выглядел смущенным и не знал, как себя держать; Фабр, казалось, был более всего обеспокоен судьбой своей новой пятиактной трагедии; Дантон говорил без умолку, и его громоподобный голос был слышен во всех соседних камерах. Он выражал сожаление, что был одним из организаторов Революционного трибунала, называл своих коллег «каиновыми братьями» и не строил никаких иллюзий насчет отношения к себе со стороны народа: «О, грязное зверье! Они будут кричать «Да здравствует республика!», когда меня повезут на гильотину!»
Тут же, в лазарете при Консьержери, лежал и доносчик Шабо. Когда он понял, что все потеряно, то решил прибегнуть к помощи яда. Однако его отходили, чтобы сберечь для гильотины.
«…Робеспьер, сможешь ли ты выполнить пагубные замыслы, которые, без сомнения, внушили тебе низкие люди, окружающие тебя? Разве забыл ты дни, о которых Камилл не мог вспоминать без восторга? Каково же преступление моего Камилла?..»
Перо выскользнуло из рук. Взор остановился на мерцающем пламени свечи. Люсиль задумалась.
Да, это последний шанс. Все ей твердят, что Робеспьер к ней неравнодушен. Она ведь по-прежнему хороша — слезы высохнут, а лицо можно припудрить. О мой Камилл! Чего бы я не сделала ради тебя!.. Ты Должен жить, ты будешь жить!..
Мысли быстро сменяют одна другую. Люсиль вспоминает свое венчанье, затем встречи. Робеспьер всегда был так внимателен к ней, казалось, ее присутствие доставляло ему радость… Тогда она не думала об этом…
Люсиль старается представить себе Робеспьера — его костюм, лицо, глаза… Глаза!.. Женщина вздрагивает. Эти светлые, внимательные глаза, бездонные и… беспощадные!.. Нет, человек с такими глазами не станет внимать ее мольбам. Нет, он никогда ее не любил, он не мог ее любить, он не может любить… Камилл погиб. Погибла и она. Все. Свеча догорит, и комната погрузится в полный мрак…
Адресат никогда не получил этого письма: оно не было отослано.
Процесс длился четыре дня. В первый разделались с финансовым заговором. Второй, посвященный в основном допросу Дантона, чуть ли не привел к срыву всего процесса. Дантон, очнувшийся, наконец, от спячки, вложил в свою речь всю ярость и силу, на какие был только способен. Он насмехался, угрожал, отвечал дерзостями. Тщетно председатель Эрман пытался его остановить: голос Дантона перекрывал звон колокольчика и будоражил толпу на улице. Председатель и судьи чувствовали себя весьма неважно. Комитет общественного спасения, следивший за ходом дела, был настолько обеспокоен, что даже отдал Анрио приказ арестовать председателя и прокурора, подозревая их в слабости: однако затем члены Комитета одумались и приостановили приказ. Несколько представителей Комитета общественной безопасности отправились в трибунал, чтобы поддержать своим присутствием судей и присяжных. Положение было спасено тем, что Дантон, вложивший слишком много энергии в свою речь, в конце концов выдохся и стал терять голос. Председатель предложил ему отдохнуть, обещая потом вновь дать слово, и утомленный трибун на это согласился.