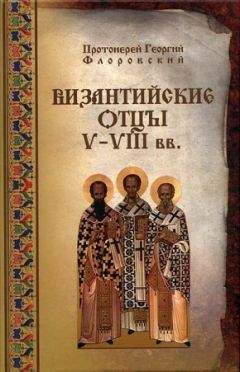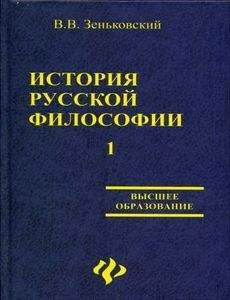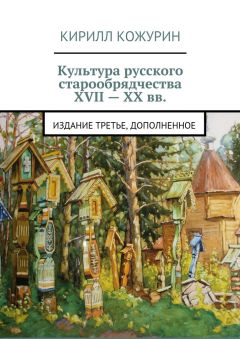Анатолий Ведерников - Религиозные судьбы великих людей русской национальной культуры
Итак, для выяснения религиозной судьбы нашего поэта очень важно оценить обстановку его детства и самые первые источники влияний. Последние, как мы видим, были двух родов: источники нравственно мутной жизни общества, к которому принадлежали родители поэта со всем укладом их светского быта и воспитания детей, и чистые источники религии и народности, напоившие душу мальчика живой водой веры в Бога и любви ко всему русскому. «Два влияния, – говорит один биограф, – встретились в душе мальчика: иноземное, французское и старинное русское, народное. Общего между ними было мало: гостиная с французскими разговорами и детская с русскими сказками, французская литература XVIII века и православные молитвы, Вольтер и няня» – вот те первые силы, которые с ранних лет начали противоборствовать в душе поэта за обладание этой же самой душой.
Отрывочные и совершенно недостаточные сведения о детстве Пушкина не дают возможности воспроизвести во всей полноте те влияния, какие формировали душу ребенка. Кто-то из биографов Пушкина верно заметил, что детство – это пора самых живых и прочных впечатлений, сохраняющих свою силу в течение всей жизни человека. Они могут быть неосознанными, и чаще всего это так и бывает, – но тем сильнее будет их незримое влияние на склонности человека, на его внутренние влечения и отталкивания в последующей жизни. Таким образом, первые впечатления жизни ложатся в основание всех последующих переживаний и сквозь толстый слой последних дают знать о себе теми или иными движениями души в более зрелые годы.
Вот почему важно найти в детстве Пушкина источники тех впечатлений, которые продолжали действовать подспудно в течение всей его жизни. Не зная многого о детских годах поэта, мы на основании немногих известных фактов все же можем с уверенностью обозначить противоборствующие силы его души характерной антитезой «Вольтер и няня», столь удачно выраженной одним из исследователей Пушкина. Он видит, что в этой антитезе для Пушкина уже наметилась «задача объединения элементов западноевропейского влияния с древнерусскими традициями».
Но в противоборстве Вольтера и няни мы с вами видим не только прообраз вышеуказанной задачи для Пушкина. Для нас Вольтер нечто большее, чем олицетворение западноевропейской культуры того времени: он скрытое оправдание чувственных влечений юного поэта и тайная душа тех языческих кумиров, которые лживой красотой очаровали Пушкина еще в садах Лицея.
Впоследствии, в пору зрелого возраста, Пушкин пытается дать поэтическую историю своей души, впавшей в искушение еще в ранней юности:
В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья.
Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.
Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.
Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса.
Но я вникал в ее беседы мало.
Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров.
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня дерев прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздномыслить было мне отрада.
Вот действие того вольтерианского начала, зерно которого было заброшено в душу Пушкина еще в неосознанных впечатлениях детства: «Я про себя превратно толковал понятный смысл правдивых разговоров». Проснувшиеся влечения страстей нашли опору в превратных толкованиях святых словес наставницы, которая привлекала юные сердца к вечной Правде не страхом наказаний, не силой, а воспитанием свободного влечения к Добру. А искусство превратных толкований смысла Правды Пушкин постиг, конечно, не из сказок няни и бабушки, а из другого источника, в котором нетрудно угадать язвительный и острый ум Фернейского отшельника. Эта в какой-то степени даже изощренная способность превратного толкования истины служила искушаемой душе мальчика как бы ширмой, за которой он мог предаваться одному из самых порочных занятий отвлекаемой от Бога души:
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.
Таково прямое свидетельство самого Пушкина о своих соблазнителях, о своих кумирах гордости и сладострастия, которые в различных видах и сочетаниях бороли его душу и давали чувствовать свою демоническую власть почти до самого конца жизни. Пусть Пушкин не докончил начатой повести о своей внутренней борьбе, пусть он не довел до конца истории своих искушений в приведенном выше незаконченном стихотворении, но этого и не нужно было делать, ибо все предыдущее и дальнейшее творчество поэта явилось такой историей, запечатлевшей всевозможные превращения двух главных его соблазнителей: демона гордости и демона сладострастия. Нам важно почувствовать и понять, что их продолжительное господство в душе Пушкина и его поколения находило опору в отрицательном влиянии французских энциклопедистов и вообще того порядка мысли, в начале которого стоит Вольтер и его философия.
Совсем иной порядок чувств и настроений был связан в душе Пушкина с воспоминаниями о няне и о бабушке. Постараемся ощутить живое дыхание этих чувств в стихотворениях, посвященных няне. Вот чудное стихотворение «Зимний вечер», «Буря мглою небо кроет», вот стихотворение к няне «Подруга дней моих суровых», вот трогательные своим непосредственным чувством строки:
…Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор – и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я – но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах.
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет – уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора…
И вечером при завыванье бури,
Ее рассказов, мною затверженных
От малых лет, но никогда не скучных…
Легко почувствовать, а отсюда и понять силу внутреннего влечения Пушкина к няне как к источнику самых чистых и благотворных впечатлений, таивших для него возможность нравственного возрождения. В этом смысле каждое поэтическое воспоминание Пушкина о няне есть верное свидетельство такого его состояния, в котором он явно тяготился своими нравственными недугами. Вот почему няня в своем противостоянии Вольтеру была для Пушкина ангелом-хранителем на самых опасных путях его страстных блужданий и жизненных испытаний.