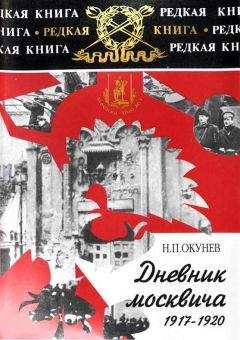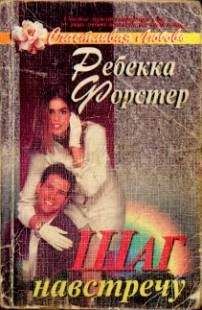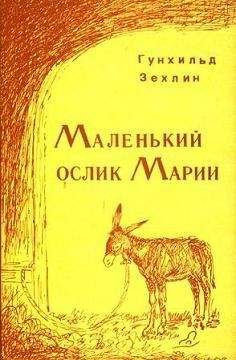Сергей Трубецкой - Минувшее
Я получал из дома книги разнообразного содержания и, в частности, мне доставили Библию. Упоминаю это потому, что, как мне говорили потом некоторые епископы и священники, им в тюрьме чинали затруднения в получении религиозных книг, например Евангелия.
После приблизительно трех с половиной месяцев одиночного заключения я был переведен в общую камеру той же «Внутренней тюрьмы ВЧК». Здесь тоже мне пришлось просидеть несколько месяцев. Остальные насельники нашей камеры менялись довольно часто, и мне пришлось таким образом перевидать много народа.
Тут были и старые тюремные сидельцы-социалисты, побывавшие ранее в «царских» тюрьмах и ссылках. Все они говорили, что прежние условия тюремного-заключения были куда легче нынешних. Были тут и военные, от прапорщика до генерала. Прапорщик попался мне из мелких купцов; он постоянно скулил и жаловался то на условия заключения, то на свою «нервность» и доходил даже до истерических припадков. В частности, помню — то был единственный случай среди заключенных в моей практике — этот физически здоровый молодой человек отказался мыть пол в нашей камере, когда до него дошла очередь. Я был «камерным старостой» и, только подняв на него голос, заставил его проделать то, что делали все мы (кроме больных, за которых, вне очереди, работали здоровые). Наоборот, помню, как мне было трудно не допустить мыть пол камеры старого генерал-лейтенанта Турова (ему было около 70 лет). Когда очередь дошла до него, я ему ничего не сказал и сам стал мыть камеру, как будто очередь была моя. И вот вдруг тот самый хамоватый прапорщик, которого я заставлял мыть камеру в его очередь, вслух заявил, что это «несправедливо». «Почему генерала не заставляют мыть пол в его очередь, а меня заставляют? Теперь нет генералов!» Ничего не подозревавший Туров вскочил со своей койки и начал отнимать у меня грязную тряпку. Вся камера была возмущена прапорщиком, и несколько дней с ним никто не разговаривал. Несмотря на протесты Турова и почти насильно, он был исключен из очереди мойки камеры, как старше 60-ти лет, на этот же раз все (кроме прапорщика) помогли мне домыть пол. Надо сказать, что такого хама, как этот прапорщик, кичившийся своим «демократическим происхождением» (тогда это было выгодно), я среди заключенных военных больше не встречал. Кстати, припоминаю, как он в камере проповедовал справедливость и целесообразность аграрной реформы, по которой безвозмездно отбираются у собственников и распределяются среди «трудящихся» все имения «свыше 100 десятин». Наивный прапорщик на следующий же день сообщил нам (вероятно, проговорился!), что его отцу принадлежит участок в... 98 десятин! За что именно был арестован ЧК этот прапорщик — мне неизвестно; во всяком случае он сидел нe по политическому делу.
Кого только у нас не было! Несколько дней сидели с нами два красноармейца из «заградительного отряда». Это были крестьянские парни. Они простодушно рассказывали, как они отбирали — по службе и в собственную пользу — продовольствие у мешочников, везших его в Москву (за самовольный грабеж их и засадили), и как выколачивали последнее зерно и картофель у крестьян Пензенской губернии. Один из них тут же с возмущением сообщал нам, что ему писали из дому, как у них в Смоленской губернии хозяйничали такие продовольственно-заградительные отряды; наши парни открыто одобряли какого-то крестьянина, убившего нескольких красноармейцев из такого отряда: «Туда им и дорога, с... сынам, народ только грабят!» Я заметил им, что ведь они сами делали то же в Пензенской губернии. «Ну, там дело другое,— убежденно заметил красноармеец,— у них — чернозем, а у нас земля бедная!» Sancta simplicitas!
Как-то ночью я проснулся: на койке рядом со мною. шел разговор шепотом. Один из красноармейцев лежал, а другой сидел у его изголовья. Услыхав, о чем идет речь, я, признаюсь, стал нарочно прислушиваться, притворяясь спящим. «Вот, говорят, всему виною господа... А я вот думаю, господа тоже разные бывают... Во, посмотри наших (речь шла, очевидно, о генерале Турове и обо мне). Господа хорошие... Конечно, землю-то у них отнять следывает...».— «Да, а так пущай себе живут»,— перебил другой красноармеец. «Нет, зачем просто живут,—продолжал первый,—пущай нами управляют. Они умнее нас, это по всему видать, пущай и управляют, а то наши, когда заправлять начинают, одна грубость выходит... ничего не получается... народу даже труднее...» — «Да,— согласился второй,— пущай управляют... Ну, а землю у них беспременно отнять следывает».
К сожалению, в камере еще кто-то проснулся, и красноармейцы прекратили свой разговор.
Сидел с нами несколько дней какой-то «американский гражданин» — еврейский эмигрант в США из Гомеля. Он эмигрировал во время «кровавого царизма», чтобы избежать воинской повинности, а теперь, «услышав о свободе», вернулся обратно, проведать своих... Только у него советская власть, «против которой он ничего не имеет», отобрала все доллары, которые при нем были, да еще почему-то арестовала... «Это мне напоминает царизм!» — говорил новоиспеченный американец. «А при царе у вас отбирали деньги и арестовывали?» — спросил я его. «Нет,— отвечал еврей,— но могли арестовать...» При этом «американец» обращался ко мне всегда «мистер князь Трубецкой».
Появился у нас в камере и француз, ни слова не говоривший по-русски. Как он был рад встретить во мне человека, говорящего на его языке!
Француз говорил: «Я коммерсант, я не занимаюсь политикой. Я приехал в Архангельск заниматься торговлей, как они говорят — «товарообменом»... Они у меня все отобрали... и вот я тут! и, Боже мой, в каких условиях». Бедный француз очень мучился: «Без моей бутылки бордо я ничего не могу проглотить»,— а тут не было не только бордо, но и многого другого, гораздо более существенного. Бедный Л. признался мне, что он, конечно, «как образованный человек» в Бога не верит, но тут, в России, ему так плохо, что... «иногда я читаю молитву. Это мне во всяком случае не может повредить, и потом... кто знает? Я, видите ли, воспитывался в католической семье... Но есть все же вещи, которых я не понимаю. Например, как вы — образованные и богатые — могли жить в этой стране, когда существовала... Франция!» Так многого и не поняв, Л. был уведен из нашей камеры и пропал с моего горизонта.
В один прекрасный день к нам в камеру ввели огромного рыжего пруссака, тоже не говорившего ни слова по-русски. Это был берлинский рабочий, металлург, прошедший войну на Западном фронте солдатом в германской артиллерии. Он был «спартаковец», коммунист по убеждениям. Он, по его словам, принужден был бежать из Германии, где рисковал головой как участник какой-то попытки коммунистического «путча». Бежал он, понятно, в Советскую Россию — рай пролетариата. Тут он был устроен рабочим на какой-то завод, но условия труда и вообще жизни в России вызвали его горячее возмущение. Он не скрыл своих чувств от германских коммунистов, бывших в Москве, и «благодаря этим свиньям», которые на него донесли, был арестован. Через переводчика он «все выложил» следователю ЧК, так как он не может допустить, что настоящие коммунисты могут терпеть такие порядки, какие он видел на своем заводе. Он не сомневался, что его протесты и указания, как и что именно надо исправить, будут услышаны и он будет «триумфирен». Однако время идет, а его даже на свободу не выпускают, а держат на голодном пайке в тесной тюрьме. «Это вы, русские,— говорил мне берлинский рабочий,— привыкли жить в таких условиях, но мы, немцы,— нет... Про здешний рай для пролетариата мне все налгали. Я предпочитаю вернуться в Германию, даже рискуя жизнью...»