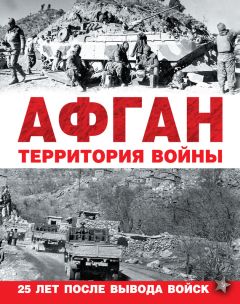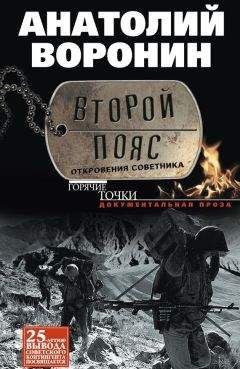Александр Майоров - Правда об Афганской войне. Свидетельства Главного военного советника
Ну а как на такое развитие отреагировали бы другие страны? Союзники СССР отреагировали бы так, как им указали бы из Москвы, — ну разве что один-два строптивца вроде румын или венгров заняли бы «сдержанную позицию». Что касается ООН, США и НАТО — они проглотили бы эту горькую пилюлю так же, как это сделали в 1956 году во время нашей акции в Венгрии, в 1968 году в связи с Чехословацкой операцией, в конце 1979 года, когда мы вторглись в Афганистан. Ворон ворону глаз не выклюет. Не начинать же в самом деле третью мировую войну из-за выхода Советов к Индийскому океану. К тому же такие события развязали бы и нашим потенциальным противникам руки для их экспансии в других регионах, мир продолжал бы делиться по заведенному историей порядку, и находились бы в таких случаях и политические и нравственные оправдательные аргументы для каждой из сторон.
И все бы хорошо — да вот только, понимаешь, Александр Михайлович, никак 40-я армия не завершит ликвидацию каких-то там моджахедов-бандитов. А победа ох как нужна. Тогда мы сможем создать мощную войсковую группировку как основу будущего первого стратегического эшелона для рывка к Индийскому океану. И кто этого не понимает — тот вообще ни хрена в высокой политике не смыслит и его и не следует держать в Афганистане в качестве Главного военного советника. Убрать его — и все!
Такие невеселые мысли проносились в моей голове, пока я ехал к Огаркову. Но почему же сразу мое дерзкое предложение о поэтапном выводе войск из Афганистана не вызвало решения о моем немедленном освобождении от должности?
Едва я оказался в приемной начальника Генерального штаба, Николай Васильевич тотчас пригласил меня к себе. Я видел, что он уже знает о происшедшем в Ореховой комнате.
— Пестель вернулся с Сенатской площади, — произнес Николай Васильевич со скрытой иронией, которая мне не понравилась. К тому же он допустил неточность, и я ею воспользовался, чтобы не принимать тона, предложенного Огарковым.
— Полковник Павел Пестель не был на Сенатской площади 14 декабря. Его арестовали накануне, 13 декабря, в Тульчине на Украине.
По лицу Огаркова мелькнула тень — о его феноменальной памяти многие были наслышаны, а тут — осечка, да еще в не самый подходящий момент. Пауза могла затянуться, а мне не хотелось ухудшать наши отношения. Похоже, и Николай Васильевич не намерен был драматизировать мое положение, и мы, продолжая еще стоять посреди кабинета, одновременно улыбнулись друг другу.
— Николай Васильевич, восемь месяцев назад в этом кабинете для меня впервые прозвучало — как боевая задача — слово «Афганистан».
Огарков смотрел на меня, немного хитровато, оставляя большой простор для моих предположений и подозрений относительно уже принятого — или еще нет? — решения на мой счет. И я продолжал:
— Не прозвучит ли оно для меня теперь в последний раз?
Не медля ни секунды, Огарков отрезал:
— Ты еще походишь под седлом. — Зная о моей кавалерийской молодости, он прибегал и к таким образным выражениям. — Да к тому же ты столько знаешь, уже столько операций провел… И Панджшер, и Кандагар, и Мазари-Шариф, и Герат… Обо всем этом известно было твоим сегодняшним собеседникам, да и не так просто найти другого под седло. — И, помолчав, он неожиданно громким голосом добавил: — Сволочи «ближние» стреножили нас! А этот, — и он ткнул пальцем в пол (этажом ниже находился кабинет министра обороны), — в рот им глядит!
Впервые за тридцать лет я видел столь раздраженным этого человека. Конечно, он доверял мне, но стены, столы, аппараты — они могли все это слышать. Видимо, допекли начгенштаба до белого каления, если он позволил себе столь намеренно громко высказаться по адресу «ближних».
Через секунду, уже совершенно спокойно, Огарков продолжал:
— Я с тобой согласен. Поддерживаю твою идею. А как получится — посмотрим. Что же касается «ближних» — на коротком чомборе я у них ходить не буду. Тебе тоже не рекомендую.
— Спасибо. Значит, на щите или — со щитом.
— Вот именно.
И, помолчав, Николай Васильевич, как мне показалось, немного смущенно добавил:
— Извини меня, Саша, за тот ночной разговор. С ноги сбился на корде…
Сердце мое наполнилось уважением к этому человеку — он не прощал себе даже малейшей оплошности. Такие по-человечески теплые искренние минуты редки в суровой воинской жизни.
— Забыто!
— Благодарю. Кланяйся Анне Васильевне.
— Спасибо. Кланяйтесь Раисе Георгиевне.
Мы обнялись на прощание.
В приемной Огаркова ожидали аудиенции несколько военачальников.
Я посмотрел на часы — времени около полуночи. Действительно, штаб работает дбпоздна. Потому и армия у нас всегда на высоте. Вот только этот Афганистан подмочил ей репутацию. Хотя, если по справедливости, армия тут не виновата — ведь она лишь выполняла политическую волю Кремля. А уж кто и как в Кремле распоряжается волей, мне теперь — после всего, что я пережил и до Афганистана, и за эти последние восемь месяцев, — известно было не понаслышке.
В Латвийском постпредстве для меня всегда был забронирован гостиничный номер — так уж повелось со времени моей службы командующим войсками ПрибВО. В этом доме латыши меня всегда встречали дружелюбно, и я по сей день вспоминаю их с теплом и благодарностью.
Жена, увидев мое настроение, сказала:
— Саня, ты воюешь с ветряными мельницами.
Если бы все так просто! И себя я к Дон-Кихотам не причислял, да и кремлевских старцев ветряными мельницами тоже не считал.
— Надо ли готовиться к чему-то плохому? — спросила Анна Васильевна.
— Возможно, к самому худшему.
Сон не шел. Вспоминалось, как позвонил мне — давно это было! — на Добровольский учебный центр Николай Васильевич и сообщил, что мне нужно прибыть в Москву… И сегодняшне его слова: «ты еще походишь под седлом». Вспоминались афганские операции и бои… мои отношения с Бабраком, с послом… Как многое вместили восемь месяцев, и, казалось, все это переживает другой человек, а не я — пребывание в Москве создавало такой эффект «отчуждения» от самого себя: ничто в московской жизни не ассоциировалось с афганскими буднями, с которыми я — или мое второе «я» — успел основательно сжиться. И в то же время я прекрасно понимал, что на этом совещании в Ореховой комнате со мной в конце концов ни хрена не считались. Даже по-настоящему не выслушали. И ни к каким серьезным выводам не пришли, ничего не решили. И все же, и все же… мне удалось их огорошить, они не ждали слов о необходимости вывода войск и потому, вероятно, немного подрастерялись вначале — ведь не для обсуждения нашего ухода собралась Комиссия, а для… чуть не сказал: определения пути к победе, да только не уверен, что сами-то старцы знали, зачем они собрали это совещание. Господи, кому ты вверил эту страну? Или с ума уже все посходили на нашей грешной земле и не ведают, что творят… и зачем творят…