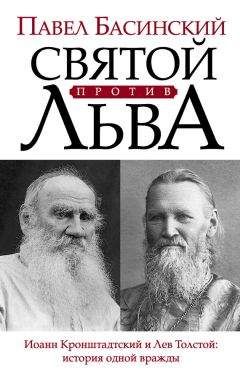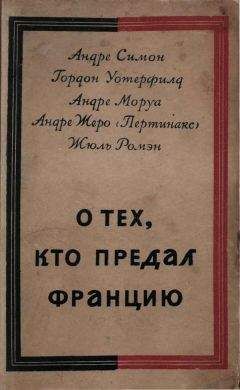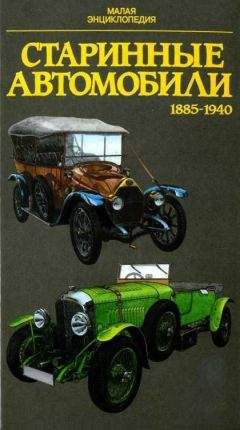Павел Басинский - Лев Толстой: Бегство из рая
И Толстой знал, что она это знает. Поэтому в их письмах гораздо больше подтекста, нежели самого текста. Иногда маленькая деталь, вроде сентиментально вложенной в письмо незабудки, которую 60-летний Толстой отправляет из Ясной жене в Москву, говорит больше, чем слова.
Когда мужчина и женщина так любят друг друга и когда их связывает такое количество любимых ими детей, они, рано или поздно, даже при всех возникающих разногласиях, должны найти какой-то новый формат семейных отношений, который устраивал бы обоих вполне.
Порой возникает странное ощущение, что этим идеальным форматом была переписка между супругами во время отъездов Л.Н. в Ясную Поляну или в Самарскую губернию. Письма Толстого к жене занимают два самостоятельных тома в полном собрании его писем. Есть только один второй корреспондент, который удостоился такого же эксклюзива. Это Владимир Григорьевич Чертков.
Среди нескольких сотен писем Толстого к жене мы не найдем ни одного послания злого, резкого, тем более – оскорбительного. Даже в его письмах, написанных во время ухода 1910 года, нет ни одной оскорбительной строчки.
«Душенька», «голубушка», «милый друг» – обычная форма эпистолярного обращения Толстого к жене. Все ссоры и разногласия в его письмах обретают какой-то иной, осмысленный характер.
«В тебе много силы, не только физической, но и нравственной, – пишет он жене 26 сентября 1896 года, после тридцати четырех лет их совместной жизни, – только недостает чего-то небольшого и самого важного, которое всё-таки придет, я уверен. Мне только грустно будет на том свете, когда это придет после моей смерти. Многие огорчаются, что слава им приходит после смерти; мне этого нечего желать; я бы уступил не только много, но всю славу за то, чтобы ты при моей жизни совпала со мной душой так, как ты совпадешь после моей смерти».
Это признание, во-первых, удивительно тем, что в нем Толстой всё-таки признает личное бессмертие и возможность загробного взгляда человека из иного мира на оставленных в этом мире близких. Это так не согласуется с религиозной философией Толстого, отрицавшей всякое индивидуальное бессмертие, что заставляет усомниться в его пресловутом «буддизме». Во-вторых, Толстой оказался стопроцентно прав! После его смерти С.А., действительно, стала проникаться его взглядами, и весь последний девятилетний период ее жизни посвящен этому непростому «душевному совпадению».
В письмах муж и жена лучше, яснее и отчетливее, понимают друг друга. Словно падает пелена с их отношений, и самая их ссора вдруг приобретает какой-то другой, более глубокий смысл.
Казалось бы, их идеалы полностью противоположны. Он зовет в будущее, она – в прошлое. Он предлагает сжечь мосты и ничего не бояться. Она берет на себя обязанность сохранения старого домашнего очага. Он зовет кочевать, она – остаться на старом месте.
Когда эти позиции проявляются в письмах, они перестают быть только семейными разногласиями.
Она: «Когда я о тебе думаю (что почти весь день), то у меня сердце щемит, потому что впечатление, которое ты теперь производишь – это что ты несчастлив. И так жалко тебя, а вместе с тем недоуменье: отчего? за что? Вокруг всё так хорошо и счастливо».
Он: «Тот побирается, тот в падучей, тот в чахотке, тот скорчен лежит, тот жену бьет, тот детей бросил. И везде страдания и зло, и привычка людей к тому, что это так и должно быть».
Она: «… я так чувствую весь трагизм твоего положения…»
Он (о пожаре в Ясной Поляне, когда сгорело 22 двора): «Очень жалко мужиков. Трудно представить себе всё, что они перенесли и еще перенесут… Сейчас ходил по погорелым. И жалко, и страшно, и величественно – эта сила, эта независимость и уверенность в свою силу, и спокойствие».
Она: «Да, мы на разных дорожках с детства: ты любишь деревню, народ, любишь крестьянских детей, любишь всю эту первобытную жизнь, из которой, женясь на мне, ты вышел. Я – городская, и как бы я ни рассуждала и не стремилась любить деревню и народ, – любить я это всем своим существом не могу и не буду никогда; я не понимаю и не пойму никогда деревенского народа… Когда ты уходишь в эту деревенскую атмосферу нравственную, я за тобой болезненно и ревниво слежу и вижу, что тут мы наверное не вместе; и не потому, что я этого не хочу, а потому, что менее, чем когда-либо, могу».
Может быть, С.А. и не понимала мужа, когда его вообще мало кто понимал. Но она никогда не позволяла детям в ее присутствии усомниться в том, что поступки и писания отца продиктованы высшими соображениями. «Прощай, милый Левочка, – пишет она мужу, – я хочу, чтоб Таня (дочь. – П.Б.) тебе писала, а она говорит: „Он пишет три строчки, за что же мы ему будем писать три человека по три листа“. А я говорю: „Он за то пишет 300 страниц для всего мира“. Целую тебя!»
«Твоего хорошего и доброго хватает на всю семью, – признает она в другом письме, – или, как Урусов выразился в прошлое воскресенье, что „вы все в его лучах живете и не цените это!“ Ну, а без тебя лучей нет, и приходится самой хоть слабым светом светить».
Первый уход
14 июля 1882 года старший нотариус Московского окружного суда подписал купчую крепость на покупку Толстым за 27 000 рублей в рассрочку дома № 15 в Долго-Хамовническом переулке коллежского секретаря И.А. Арнаутова. Этот дом очень советовал купить дядя жены Толстого Константин Иславин. Он писал: «…роз больше, чем в садах Гафиза; клубники и крыжовника – бездна. Яблонь дерев с десять, вишен будет штук 30; 2–3 сливы, много кустов малины и даже несколько барбариса. Вода – тут же, чуть ли не лучше мытищинской! А воздух, а тишина! И это посреди столичного столпотворения. Нельзя не купить».
Кажется, тишина и наличие огромного фруктового сада, в котором можно было заблудиться, как в лесу, и привлекли Толстого. Сам дом был очень старый и недостаточно просторный. Построенный в 1808 году, он пережил нашествие Наполеона на Москву и не сгорел только потому, что редкие строения Хамовнического района прерывались большими зелеными массивами. В доме не было электричества, уже существовавшего в ту пору в Москве. И наконец, его забор упирался в кирпичную стену пивоваренного завода. И весь район был фабричный, окраинный. Соседи были хорошие, Олсуфьевы.
На лето семья Толстых вернулась из Москвы в Ясную. И вот здесь-то в августе случилось событие, которого С.А. боялась больше всего. Возможно, предчувствуя его, она и отговаривала мужа от слишком поспешного возращения в Москву. Но не в Москве, в Ясной он впервые высказывает желание уйти из семьи.
В Москве он чувствовал страшную слабость и желание умереть. Толстой писал Страхову: «Я устал ужасно и ослабел. Целая зима прошла праздно. То, что по-моему нужнее всего людям, то оказывается никому не нужным. Хочется умереть иногда. Для моего дела смерть моя будет полезна…»