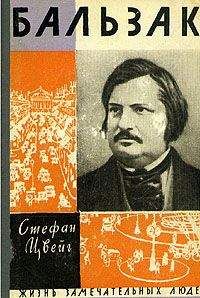Поэты, писатели, безумцы. Литературные биографии - Цвейг Стефан
Философия Канта, терзавшая душу двадцатилетнего юноши, душившая его, как «жизненный план», теперь подает реплики курфюрсту, одухотворяя образ монарха. Кадетские годы, военное воспитание, которому он посылал тысячи проклятий, воскресают в великолепной фреске армии, в этом гимне товарищеской солидарности; даже земля Бранденбурга, уже многие годы ему ненавистная, становится здесь почвой событий, и в воздухе, обычно не ощущаемом в его трагедиях, чувствуется дальний простор.
Все, что он преодолел, – традиция, дисциплина, эпоха, – как небо, высится над его произведением; впервые его творчество вырастает на родной почве, вытекает из призвания крови. Впервые разрежен воздух, нет мучительного напряжения, оно свободно от нервного трепета, впервые, не насилуя, не тесня друг друга, прозрачно льются стихи, впервые звучит музыка. Мир призраков, обычно пылавший демоническим напряжением глубин, теперь, словно сумерки, витает над земной жизнью; будто сладостный звон последних шекспировских драм, звон веселого познания и освобождения, опускает завесу над гармоническим миром.
«Принц Гомбургский» – самая правдивая драма Клейста, потому что в ней заключена вся его жизнь. Тут сосредоточены все скрещения и смещения его существа – любовь к жизни и стремление к смерти, искание меры и чрезмерность, наследие и приобретенное достояние: только здесь, исчерпывая себя, он становится правдивым и выходит за пределы осознанной им правды. Отсюда это веяние пророческой тайны в сцене смерти, хмель самоубийства, страх перед роком – предвосхищенные творчеством часы его смерти и в то же время повторение всей прожитой жизни. Только обреченные на смерть обладают этим высшим познанием, этим двойным зрением, проникающим и в прошлое и в будущее. Среди немецких драм только «Принц Гомбургский» и «Эмпедокл» дарят нам эту призрачную музыку, этот отзвук беспредельности. Ибо только смертное томление может так расплавить душу, только чистое отречение – достигнуть сфер, где никнет утомленная страсть; то, в чем судьба так упорно отказывала Клейсту в его алчных и гневных набегах, она дарит ему в тот час, когда он уж ничего не ждет: она дарит ему совершенство.
Страсть к смерти
Все трудное, что в силах человека,
Я сделала, – к безмерному стремилась.
Всю жизнь свою поставила я на кон,
И выпала решающая кость,
Должна постигнуть я, что проиграла!
На высшей ступени своего искусства, в год появления «Принца Гомбургского», Клейст роковым образом достиг и высшей ступени своего одиночества. Никогда он не был так забыт миром, таким лишним в своей эпохе, в своем отечестве; службу он бросил, журнал ему запретили, его заветная мечта – вовлечь Пруссию в войну на стороне Австрии – остается тщетной. Его злейший враг – Наполеон – держит Европу в руках, как покорную добычу, прусский король из вассала Наполеона превращается в его союзника. Пьесы Клейста не имеют успеха и, путешествуя из театра в театр, осмеиваются публикой или отклоняются равнодушным директором; его книги не находят издателя, сам он остается не у дел; Гёте от него отвернулся, другие не знают его или не считают достойным внимания, покровители его оставили, приятели забыли; последней покидает его самая верная, некогда «Пиладу подобная» сестра Ульрика.
Каждая карта, на которую он ставил, бита, и последнюю оставшуюся у него, самую ценную – рукопись его лучшего произведения, «Принца Фридриха Гомбургского», – он уже не может пустить в ход: он уже вне игры, и никто не доверяет его ставке. И тут, вновь вынырнув на поверхность, он пытается, после многих месяцев безвестной жизни, вернуться в свою семью: еще раз он едет во Франкфурт-на-Одере к своим – освежить душу каплей любви, но родные посыпают солью его раны, и желчь стекает с их уст. Обеденный час в кругу Клейстов, свысока посматривающих на уволенного чиновника, на обанкротившегося издателя газеты, на неудачливого драматурга, видящих в нем недостойного представителя их рода, – этот час лишил его последних сил. «Я готов лучше десять раз умереть, – пишет он в отчаянии, – чем еще раз пережить то, что я испытал во Франкфурте за семейным обедом».
Родные его оттолкнули, столкнули в ад, кипящий в его груди; с омраченной душой, пристыженный и униженный, отправляется он опять в Берлин. Несколько месяцев он бродит там в стоптанных башмаках, в поношенном костюме, подает в различные ведомства прошения о предоставлении должности, предлагает (тщетно) издателям роман, «Принца Гомбургского», «Битву Арминия», угнетает друзей своим жалким видом; в конце концов он надоел всем, и ему самому надоели поиски. «Моя душа так изранена, – жалуется он, – что когда я высовываю нос из окна, мне кажется, будто дневной свет причиняет мне боль». Его страсти иссякли, силы истощены, надежды разбиты:
И вот среди этого молчания, самого глубокого молчания, какое знал, быть может, еще только Ницше, его сердца касается мрачный голос, зов, который звучал ему всю жизнь, всякий раз, как иссякала его бодрость, как овладевало им отчаяние: мысль о смерти.
С ранней юности преследует его эта мысль о добровольной смерти, и так же, как еще в отрочестве он составил план жизни, так заранее приготовил он и план смерти – эта мысль усиливается в нем всякий раз в часы бессилия; темной скалой вздымается она в его душе, когда убывает прилив страстей и пенящийся поток надежд. Не счесть в письмах Клейста и в его встречах этих пламенных призывов к смерти; и, может быть, позволителен такой парадокс: он только потому мог так долго выносить жизнь, что ежечасно был готов от нее отказаться.
В любую минуту он готов умереть, и если он так долго медлит, то в этом виноват не страх, а гипербола, виновата чрезмерность его натуры, ибо даже от смерти требует он грандиозности, экзальтации, избытка; он не хочет лишать себя жизни мелко, ничтожно, трусливо: он стремится, как он пишет Ульрике, к «прекрасной смерти», – и эта идея, такая мрачная и гибельная, у Клейста окрашивается усладой пьянящего сладострастия. Он хочет броситься в смерть как в торжественную брачную постель, и в изумительном сплетении чувств (его эротика, никогда не находившая своего русла, изливается во все глубины его натуры) он мечтает о смерти как о мистической любовной смерти, как о вдвойне блаженной гибели.
Какой-то первобытный страх – он увековечил его в сцене «Принца Гомбургского» – внушает ему, одинокому, опасение, что это одиночество жизни будет преследовать его и в потустороннем мире, в вечности: поэтому с самого детства в мгновения высшего экстаза он предлагает каждому, кого он любит, умереть с ним. Неудержимо стремившийся к любви в жизни, он тоскует по любви и по смерти. В земном существовании ни одна женщина не могла удовлетворить его чрезмерности, не могла идти в ногу с фанатически устремленными, доведенными до экстаза чувствами, никто – ни невеста, ни Ульрика, ни Мария фон Клейст – не могли подняться до точки кипения его требований; только смерть, только превосходная и непревосходимая степень – Пентесилея выдала его пламень – способна удовлетворить его потребность в любви. Желанна для него только та женщина, которая согласится с ним умереть, женщина, охваченная этим до предела гиперболизированным чувством, и «ее могилу он предпочтет постели всех королев мира» (так восклицает он в предсмертном ликовании). Каждому, кто ему дорог, настойчиво предлагает он стать своим спутником, чтобы уйти во мрак. Каролине фон Шиллер (почти чужой ему) он заявляет, что готов «застрелить и ее и себя», а своего друга Рюле он завлекает ласковыми и страстными словами: «меня не покидает мысль, что мы еще должны что-то сделать вместе – приди, свершим еще что-нибудь прекрасное и умрем! Одной из миллионов смертей, которыми мы уже умирали и которые еще предстоят нам. Это то же самое, что перейти из одной комнаты в другую». Как обычно, холодная мысль превращается у Клейста в страсть, в пламя, в экстаз. Все больше и больше опьяняется он желанием положить величественным жестом конец медленному распылению сил и усилий, произвести взрыв во имя героического саморазрушения – и вырваться из убожества, связанности, изломанности неудовлетворенного жизнью чувства в фантастическую смерть, озвученную фанфарами упоения и экстаза: мощно расправляет члены его демон, ибо он хочет вернуться наконец в свою беспредельность.