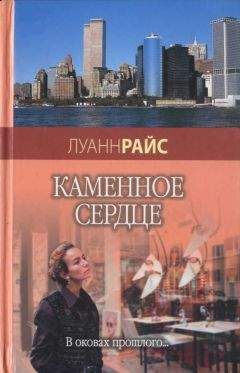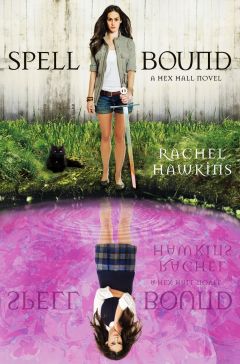Мария Белкина - Скрещение судеб
— Но вы с ума сошли, Марина, уже два часа ночи, пока вы доберетесь, будет три, а потом вас надо провожать!.. И зачем мне этот платок, я приду за ним к вам завтра, если вы этого хотите.
Нет, она сейчас должна вернуть платок, пусть ждет. И положила трубку. И принесла платок, на котором действительно стояла метка, были вышиты инициалы «А.Т.»
Должно быть, ей было нужно, необходимо видеть его именно в тот момент, а не завтра — так она задумала, так ей вообразилось…
Когда-то давно Марина Ивановна сказала:
Ко мне не ревнуют жены:
Я голос и взгляд.
Но это было все же не всегда и не совсем так. Умница Тата легко и просто смотрела на увлечение Марины Ивановны, но все же и она (как мне казалось) время от времени «поскрипывала».
А Тоня Тарковская[71], должно быть, и вправду ревновала. Это было милое, доброе и, видно, наивное существо. Она уверяла, что ожерелье, которое ей подарила Марина Ивановна — душит и она не может его носить, и что Марина Ивановна чернокнижница и знает наговор и что достаточно только взглянуть в ее колдовские зеленые глаза, чтобы понять это.
Как-то у нас на Конюшках зашел разговор о той самой книге Сигрид Ундсет «Кристин, дочь Лавранса», которую Марина Ивановна так любила. Мы все тогда читали этот роман, и я сказала, что любовь Кристин кажется мне несколько надуманной: эта безумная страсть, убийство, колдовство — все ради того, чтобы любимый мужчина был с тобой! Марина Ивановна возразила, что в наш век любовь просто выродилась и люди разучились любить… Это как если бы художник рисовал не красками, а водой, которой он смыл палитру. И добавила, что, по ее мнению, образ Кристин самый яркий из женских образов, созданных во всей мировой литературе за все века.
Кто-то заметил, что в этом романе, собственно говоря, и есть только одна Кристин, а мужчины там, как тени, и играют подсобную роль, они статисты.
— Как и в жизни! — сказала Марина Ивановна. — В любви главная роль принадлежит женщине, она ведет игру, не вы, она вас выбирает, вы не ведущие, ведомые!..
— Но, Марина Ивановна, оставьте нам хотя бы иллюзию того, что мы вас все же завоевываем!..
— Ну, если вам доставляет удовольствие жить ложью и верить кошачьим уловкам тех женщин, которые, потакая вам, притворствуют, — живите самообманом!
Но самообманом, в общем-то, жила она сама, придумывала людей, придумывала отношения, придумывала ситуации. Она была и автором, и постановщиком этих ненаписанных пьес! И заглавную роль в них исполняла сама.
Она, должно быть, и правда верила, что видела однажды ночью лицо Тони, жены Тарковского, прильнувшее к ее окну на Покровском бульваре, и ее метнувшуюся тень..» И это на седьмом этаже, на узеньком декоративном балкончике, который по прихоти архитектора опоясывал фасад, так что на балкончик этот выходили окна всех квартир, но ни одной двери![72]
Каждое новое увлечение она переживала, словно бы все было в первый раз, в ней жила неистребимая молодость чувств и восприятия. «Во мне — таинственно! — уцелела невинность: первого дня, весь первый день с его восхищением — изумлением — и доверием…» Это она записала все в той же тетради 1940 года, когда ей уже было сорок восемь лет.
Она была женщиной, и, быть может, в большей степени, чем другие! И более уязвимой, и более ранимой, и более других нуждавшейся в любви, но в силу своего характера, темперамента, тех бурь, которые бушевали в ней, она, — столь гениально умевшая выразить себя в стихах и в прозе, — не очень-то, видно, умела «выразить» себя в жизни, в жизненных ситуациях, в отношениях и столкновениях с людьми, она была вне нормы той принятой и устоявшейся обыденности, средственности отношений, она была инопланетянином. Она и те, с кем она сталкивалась, шли по разным параллелям. И она страдала от отсутствия взаимности. Она пыталась уговорить себя, что «презрение ко мне есть презрение к себе, к лучшему в себе, к лучшему себе…» Но это не приносило ей успокоения и счастья. Она писала: «Когда мы молоды, они нам не дают проходу. Когда мы уже… они идут на нас как на вещь (личный опыт)». Она видела себя в зеркале, себя сорокового года: «…убитую, и такую плачевную… просто смеюсь! — (Это я???)». И еще раньше: «Я очень постарела… почти вся голова седая… и морда зеленая: в цвет глаз, никакого отличия…» Но «мне все еще нужно, чтобы меня любили: давали мне любить себя: во мне нуждались — как в хлебе. (И скромно — и безумно по требовательности)».
Говорила она это Тесковой в 1936 году, могла это сказать и в 1940-м…
По словам Яковлевой, Тарковский — «последний всплеск Марины»; быть может, и так — времени у нее уже оставалось слишком мало… После того, как весной 1941 года на книжном базаре Тарковский не подошел к Марине Ивановне и она на него рассердилась, то, по заверению Яковлевой, они больше уже не встречались. Но мы как-то разговорились с Арсением и он сказал, что виделись они с Мариной Ивановной почти до самого ее отъезда, и однажды, уже в дни войны, столкнулись на Арбатской площади, и их настигла бомбежка, и они укрылись в бомбоубежище. Марина Ивановна была в паническом состоянии. Она сидела в бомбоубежище, обхватив руками колени, и, раскачиваясь, повторяла все одну и ту же фразу:
— А он все идет и идет…
Октябрь 1940 года.
У Мура в дневнике есть запись:
«6.X.40… Возьму у Тарасенкова Олдингтона и Хаксли.
8.X.40… Взял у Тарасенкова Грина и «Закономерность» Вирты.
17.X.40… Тарасенков — полезнейший человек — живая библиотека: я питаюсь его книгами…»
Теперь, проглядывая письма Мура, я узнаю книги, которые он брал у нас.
«…C величайшим удовольствием прочел рассказы и стихотворения в прозе Тургенева, «Матросскую песнь» Мак-Орлана, стихи Мандельштама и Долматовского (между прочим, Долматовский — превосходный поэт), перечел Чехова, попытался читать Толстого (Ал. Ник.) и Федина, но безуспешно — бросил. Сейчас читаю «Детство» П. Вайян Кутюрье; очень нравится (потому что похоже на Арагона, а я поклонник Арагона). Прочел также «Рыжика» Ж. Ренара (помнишь фильм?), потом сочинение Шеллера-Михайлова «Ртищев» (мрачно, 80-е годы), «Мелкого Беса» Сологуба (тоже мрачно, затхло). Из русских прозаиков впереди всех идут Лермонтов, Тургенев, Достоевский и Чехов. Не Пушкин, а Лермонтов — подлинный родоначальник русской прозы. У Тургенева — замечательный язык; он неподражаем. Достоевский — могуч и умен, как дьявол. Чехов же показал подлинного, обнаженного человека. Какие писатели! Они, по крайней мере, равны великим писателям Запада: Достоевский же, а отчасти и Чехов, и выше этих писателей. Бальзак тяжел и напичкан нелепым мировоззрением. Стендаль устарел со своим навязчивым антиклерикализмом (как и А. Франс), Гюго — не читаем сейчас, Флобер скатился в артистицизм, Золя назойлив со своими дегенератами…» — И это все пишет шестнадцатилетний мальчишка!