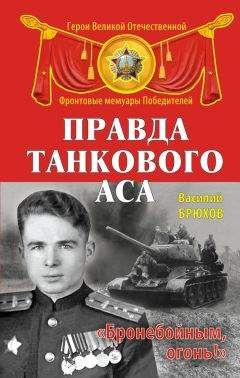Генри Миллер - Книги в моей жизни: Эссе
Мне театр всегда напоминал общее омовение в реке. Волнение, испытанное в рядах толпы, всегда оказывает тонизирующий и терапевтический эффект. Не только мысли, деяния и персонажи материализуются перед глазами, но публику словно бы уносит одним потоком. Уподобляя себя актерам, зритель заново переживает драму в своих воспоминаниях. Всем управляет некий невидимый суперрежиссер. Сверх того, в каждом зрителе живет другой человек, и личная уникальная драма разворачивается параллельно той, что идет на сцене. Все эти волнообразно отраженные драмы соединяются, возвышая увиденное и услышанное так, что сами стены ощущают физическое напряжение, которое невозможно вычислить, а порой и вынести.
Даже для знакомства с собственным языком необходимо ходить в театр. Сценическая речь — явление совершенно другого порядка, чем речь книжная или уличная. Как самые незабываемые литературные произведения происходят от притчи, так самые незабываемые ораторские выступления коренятся в театре, где слышишь то, что говоришь самому себе. Мы забываем, сколь безмолвны те драмы, которые мы разыгрываем каждый день в нашей жизни. Сорвавшиеся с губ слова неизмеримо мягче тех, что раздаются со сцены и разрывают нам душу. Сходным образом дело обстоит с поступками. Человек действия — даже если он герой — проживает в поступках лишь часть сжигающей его драмы. В театре не только все чувства раздражены, напряжены, доведены до высшего предела, но также и уши усваивают новые мелодии, глаза привыкают к новым образам. Нас заставляют распознать извечный смысл человеческих деяний. Все происходящее на сцене словно бы фокусируется искривленной линзой, чтобы найти желанный угол отражения. Мы не только чувствуем то, что называется судьбой: мы сами переживаем ее — каждый на свой лад. На этой узкой полосе за огнями рампы мы все находим общее место встречи.
Когда я думаю об увиденных мною бесчисленных спектаклях на самых разных языках, когда думаю о странном соседстве всех этих театров и как я возвращался домой, часто пешком, иногда в страшный дождь, слякоть и грязь, когда думаю о действительно необыкновенных личностях, потрясавших все мое существо, о бесконечном множестве идей, косвенно повлиявших на меня, когда думаю о проблемах других эпох, других народов и об этом магическом, непостижимом посреднике, позволившем мне понять их и выстрадать, когда думаю о том, как подействовали на меня некоторые пьесы, а через меня — на моих близких или даже на неизвестных мне людей, когда думаю о потоках крови, жизненной силе, жестокости, пестрых мыслях, отразившихся в словах, жестах, сценах, кульминациях и взрывах восторга, когда думаю о том, как это все в высшей степени человечно — так безжалостно человечно, так целительно и так универсально, ценность театра — все, что имеет отношение к пьесам, драматургам и актерам — вырастает в моих глазах до масштабов прямо-таки экстравагантных. Взять хотя бы одну театральную форму — постановки на идише. Как они поразительно близки, как дороги мне теперь, когда я оглядываюсь назад. В пьесе на идише обыкновенно есть понемножку от всего, что составляет содержание повседневной жизни: танцы, шутки, шумная возня, свадьбы, похороны, идиоты, нищие, праздники — не говоря уж об обычных недоразумениях, проблемах, тревогах, разочарованиях и прочих вещах, образующих сложную ткань современной драмы. (Я имею в виду, естественно, заурядную еврейскую пьесу, предназначенную для масс и, следовательно, «состряпанную», как тушеное мясо.) Чтобы насладиться спектаклем, не нужно знать ни единого слова на этом языке. Ты смеешься и плачешь, как все прочие зрители. Становишься на это время евреем. И, выходя из театра, спрашиваешь себя: «Разве я не такой же еврей, как они?» То же самое происходит с ирландскими, французскими, русскими, итальянскими драмами. Раз за разом ты становишься похож на эти чуждые тебе создания и тем самым становишься более человечным, более похожим на универсальное «я». Благодаря драме мы обретаем нашу общую и индивидуальную личность. Мы сознаем, что связаны со звездами так же, как с землей.
Иногда мы также ощущаем себя гражданами совершенно неизвестного мира — мира более, чем человеческого, такого мира, где, быть может, обитают только боги. Достойно внимания то, что театр способен произвести подобный эффект при всей ограниченности его средств. Заядлый театрал наслаждается жизнью, отличной от его собственной, склонен забывать, что он получает от спектакля лишь то, что сам вложил в него. В театре очень многое нужно просто принимать как данность и очень многое нужно разгадывать. Маленькой человеческой жизни, если смотреть на нее снаружи, совершенно недостаточно для объяснения тесной связи между публикой и актерами, которую устанавливает любой хороший драматург. Во внешней жизни последнего из людей можно найти неистощимый источник драм. Именно из этого резервуара драматург черпает свой материал. Драма, которая продолжается бесконечно в душе любого человека, являет себя самым загадочным образом, почти никогда не облекаясь в слова или поступки. Ее полутона образуют обширный океан, над которым поднимается туман, и в этом океане хрупкое суденышко пьесы то взлетает на гребень волны, то исчезает в пучине. В этом обширном океане человечество постоянно посылает наружу сигналы, словно бы желая привлечь внимание обитателей других планет. Великие драматурги не более чем чувствительные детекторы, которые в какой-то момент отвечают нам строкой, действием, мыслью. Содержание драмы — отнюдь не события повседневной жизни. Драма лежит в самой сущности жизни, вросла в каждую клеточку тела, в каждую клеточку бесчисленных субстанций, облекающих наши тела.
Я принадлежу к числу тех людей, которых часто обвиняют в желании увидеть больше, чем предмет содержит — реально или в потенции. Особенно меня критикуют за это применительно к сфере театра или кинематографа. Если это и слабость, то я ее не стыжусь. Я жил в сердце драмы с того момента, как стал достаточно взрослым, чтобы понимать происходящее вокруг меня и во мне. Я окунулся в театр с детства, как утка окунается в воду. Для меня он всегда был не развлечением, а дыханием жизни. Я приходил в театр, чтобы возродиться и обрести жизненную силу. С поднятием занавеса, по мере того как медленно гас свет, я готовился безоговорочно принять все, что произойдет на моих глазах. Для меня пьеса была не только такой же реальностью, как окружающая жизнь, в которую сам я был погружен, — она была более чем реальность. Глядя назад, я должен признать, что многое было просто «литературой», обыкновенной трескучей болтовней. Но тогда это было жизнью — жизнью во всей ее полноте. Это украсило мою повседневную жизнь и повлияло на нее. Наполнило эту жизнь.
Способность к возвышению — ибо это возвышение, а не слабость, если смотреть на вещи правильно, — чисто театрального, по определению критиков, действа, способность, которую я взращивал в себе сознательно, родилась из отказа принимать вещи такими, как они есть. Дома, в школе, в церкви, на улице — где бы я ни оказался, драма проникала в мое существо. Если бы мне хотелось получить точную копию повседневной жизни, я бы не ходил в театр. Меня влекло в театр потому, что с самого нежного возраста я, сколь бы нелепым это ни казалось, разделял тайные намерения драматурга. Я ощущал вечное присутствие универсальной драмы с ее глубокими, глубочайшими корнями, с ее огромным и бесконечным значением. Я не просил, чтобы меня убаюкивали или обольщали, — я хотел, чтобы меня потрясли и пробудили.
На сцене личность — это все. Великие звезды, будь то комедийные актеры, трагики, буффоны, мимы, клоуны или же просто фигляры, отпечатались в моей памяти столь же глубоко, как великие персонажи литературы. Возможно, даже глубже, поскольку я видел их во плоти. Нам приходится воображать, как разговаривали, двигались или жестикулировали Ставрогин или барон де Шарлю. С великими драматическими персонажами дело обстоит иначе.
Я мог бы долго рассказывать буквально о сотнях людей, которые некогда поднимались на подмостки — до сих пор, закрыв глаза, я вижу, как они декламируют текст, воздействуя своей загадочной магией. Были такие театральные пары, которые столь сильно влияли на наши чувства, что становились нам ближе и дороже, чем члены собственной семьи. Нора Бейс и Норуорт, к примеру. Или Джеймс и Бонни Торнтон. Иногда нас покоряли целые фамилии — такие, как семейство Эдди Фоя или Джорджа М. Коэна. Актрисы в особенности — они овладевали нашим воображением так, как никто другой. Не всегда это были великие актрисы, но все они отличались неотразимым блеском и неодолимым магнетизмом. Мне сразу же приходит на память целое созвездие имен: Элси Дженис, Элси Фергюсон, Эффи Шеннон, Адель Ричи, Грейс Джордж, Алиса Бреди, Полина Лорд, Анна Хельд, Фрици Шефф, Трикси Фриганца, Гертруда Хоффман, Минни Дапри, Белла Бейкер, Алла Назимова{116}, Эмили Стивенс, Сара Олгуд и, конечно же, мрачная, яркая фигура, чье имя, я уверен, никто не вспомнит — Мими Агаглиа. Они были созданиями из плоти и крови, а не фантомными созданиями экрана, и это еще больше влекло нас к ним. Иногда мы видели их в моменты слабости — иногда смотрели на них затаив дыхание, ибо знали, что у них на самом деле разрываются сердца.