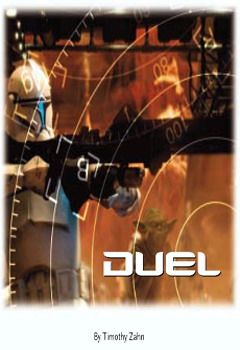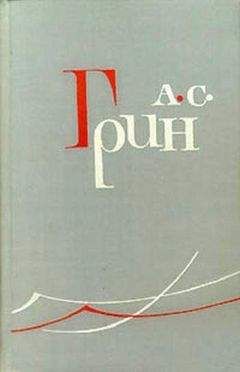Тимоти Колтон - Ельцин
Наш народ хорошо знает, что такое революция, как велики ее соблазны и как трагичны результаты. В российских условиях революционный вариант неизбежно вырвался бы из-под контроля, привел бы к колоссальным противоречиям и конфликтам. И тогда опять, как говорил В. Маяковский: „Ваше слово, товарищ маузер“. Только сейчас был бы не маузер, а автомат. Начнись этот шторм, никто не только в стране, но и в мире не смог бы его остановить…
Мы выбрали путь реформ, а не революционных потрясений. Путь мирных перемен под контролем государства и президента. Считаю это нашей общей победой!»[903]
Определив, что перемены осуществляются под контролем президента, Ельцин назначил себя и «стоп-краном», и машинистом российского локомотива (или, по выражению Бурбулиса, «арбитром»).
Как он часто делал в своих мемуарах, Ельцин описывает в «Записках президента» тот самый конкретный момент, когда у него появилась эта идея: это произошло в 1991 году, в то время, как он наблюдал за москвичами, вершившими правосудие. В четверг 22 августа Ельцин увидел, как жители города стали собираться вокруг здания Центрального комитета на Старой площади. Возбужденная толпа начала бить стекла и снесла бы ворота, если бы милиция, присланная мэром Поповым, не блокировала митингующих. В тот же день десятки тысяч людей собрались вокруг здания КГБ на Лубянке; на его стенах рисовали граффити и изображения свастик; работники КГБ вооружились и забаррикадировали входы в здание и коридоры. Той ночью, при свете прожекторов, произошло событие, которое увидели во всем мире: монтажные краны под руководством Сергея Станкевича и Александра Музыкантского снесли памятник основателю системы советского террора Феликсу Дзержинскому, стоявший на площади с 1958 года[904].
Во всех этих событиях Ельцин увидел только угрозу власти толпы: «И у меня перед глазами встал призрак Октября — погромы, беспорядки, грабежи, перманентные митинги, анархия, с которой и начиналась эта великая революция. Превратить Август в такой вот Октябрь 17-го можно было одним движением руки, одной подписью. Но я не пошел на это. И не жалею». В советской истории толпу сменила партия, которая разделила общество на «чистых и нечистых» и пыталась построить новый мир на плечах нечистых. Ельцин не хотел делить общество или присваивать материальные ценности, накопленные за годы коммунистического правления столь упорным трудом. «Я видел преемственность между обществом хрущевско-брежневского периода и новой Россией — все ломать, все разрушать по-большевистски, повторяю, совсем не входило в мои планы»[905].
Его представление о необходимости терапевтического и постепенного посткоммунистического перехода и отказ от революционного пути способствовали еще одному решению — решению спустить на тормозах воздаяние прежнему режиму. Ельцин, как и все, отлично знал, что в коммунистическом прошлом было много такого, что заслуживало покаяния. В своих книгах и выступлениях на посту президента он часто говорил о насильственной коллективизации, сталинском терроре и чистках, о ГУЛАГе; впрочем, в годы правления Горбачева об этом говорило большинство членов советской элиты. В декабре 1991 года Горбачев передал Ельцину архив Генерального секретаря КПСС, где хранились самые взрывоопасные документы советской эпохи. Изучение архива, который с этих пор стали называть президентским, открыло Ельцину глаза на доселе неизвестные ему жестокости, и некоторые из этих документов показались ему поистине ужасающими. Спичрайтер президента, Людмила Пихоя, говорила, что Ельцин был потрясен, узнав, что во время Гражданской войны 1918–1921 годов Ленин приказал казнить 25 тысяч русских православных священников, и это был только один пример[906].
В первый год Ельцин часто использовал полученные архивы в сфере внешней политики. В июне 1992 года в Вашингтоне он пообещал американскому конгрессу раскрыть информацию о военнопленных, которые после корейской и вьетнамской войн могли оказаться в России. Представители российско-американской комиссии отправились изучать трудовые лагеря в Печоре, на Северном Урале. «Телевизионные каналы распространили слова Ельцина и информацию о расследованиях в Печоре по всему миру, что послужило его политическим целям», хотя никаких американских военнопленных или каких-либо записей о них так и не было обнаружено[907]. Правительство Ельцина «продемонстрировало полную готовность пересмотреть и осудить спорные эпизоды» в отношениях между СССР и восточноевропейскими странами, пойдя значительно дальше Горбачева[908]. Горбачев осудил советское вторжение в Чехословакию в 1968 году, но ни словом не обмолвился о венгерских событиях 1956 года. В ноябре 1992 года Ельцин передал правительству Венгрии секретные материалы 1956 года, которые впоследствии были опубликованы на венгерском языке. Той же осенью Рудольф Пихоя, новый руководитель Государственной архивной службы России (и муж Людмилы Пихоя), по поручению Ельцина поехал в Варшаву, чтобы вручить польскому президенту Леху Валенсе копии документов НКВД/КГБ и КПСС, которые подтверждали виновность советского руководства в казни более 20 тысяч офицеров и других польских пленных близ Катыни в 1940 году. Горбачев знал об этих документах, однако делал вид, что их не существует. Ельцин принял в Кремле польских журналистов и назвал расстрелы в Катыни «продуманным и позорным массовым убийством», совершенным по подстрекательству «партии большевиков». Во время визита в Варшаву в августе 1993 года он посетил городское военное кладбище, «преклонил колени перед польским священником и поцеловал ленту венка, возложенного к подножию катынского креста»[909]. Ельцин также передал Валенсе досье, которое КГБ собрал на него в бытность его лидером профсоюзного движения «Солидарность» в 1980-х годах. Была обнародована информация о пакте Молотова — Риббентропа 1939 года, об исчезновении Рауля Валленберга, шведского дипломата, во время войны спасшего множество венгерских евреев, а также о сбитом советскими истребителями в 1983 году на Дальнем Востоке корейском самолете.
Внутри страны Ельцин подходил к вопросам истории более осторожно. Сталинские репрессии были настолько чудовищны, полагал он, что раскрытие документов, связанных с судьбами отдельных лиц и пострадавших групп населения, может нарушить политический и социальный мир. В июле 1992 года он сказал группе журналистов, что россияне воздерживаются от взаимных обвинений и мести: «Как ни трудно было удержаться — а был ведь соблазн, многие говорили: давайте мы копнем снизу. Ну, знаете, копать на пятнадцать — двадцать миллионов плюс их семьи, которые пострадают, — это мы взорвали бы все общество»[910]. То, что обнародование всей правды могло бы привести к катарсису и оказать профилактическое влияние на общество, как это и произошло в посткоммунистической Восточной Европе, отходило для Ельцина на второй план на фоне дестабилизирующего потенциала этой информации[911].
Тем не менее после 1991 года Ельцин способствовал распространению информации и исправлению несправедливости — постепенно, шаг за шагом. В годы его президентства российские и иностранные исследователи получили широкий доступ к архивной информации, за исключением лишь совершенно секретных данных, касающихся президентства и служб безопасности[912]. В книгах, мемуарах и документальных фильмах исследовалось прошлое, российские историки присоединились к международному научному сообществу. Генерал Дмитрий Волкогонов, ортодоксальный коммунист, превратившийся в реформатора и до самой своей смерти (1995) остававшийся помощником Ельцина, обнародовал множество материалов и проследил истоки бесчеловечности советского коммунизма, идущие не от Сталина, а еще от Ленина. Ельцин считал Волкогонова «военной версией самого себя — продуктом и слугой старой системы, который увидел свет и теперь борется с темными силами прошлого»[913]. После принятия в октябре 1991 года законодательных основ этой работы Ельцин назначил Александра Яковлева, бывшего секретаря ЦК, возглавлявшего комитет КПСС по преступлениям сталинского периода, председателем Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий. За последующие десять лет было реабилитировано около 4,5 млн человек, 92 % из них — посмертно. Среди этих людей были кулаки, священники (несколько сотен тысяч священников были расстреляны или умерли в заключении), военные, диссиденты и узники фашистских лагерей, после победы отправленные в Сибирь; многие были приговорены по неполитическим статьям Уголовного кодекса. По воспоминаниям Яковлева, Ельцин «активно поддерживал» его работу и подписывал указы по открытию архивов и реабилитации лиц в списках, подготовленных комиссией: «Все предложения, которые я ему подносил, я не помню, чтобы какой-то спор вызывали»[914]. Однако разобраться с коммунистическим наследием на более символическом уровне Ельцин не был готов. Представители диссидентских кругов требовали организации трибунала по типу Нюрнбергского, который осудил бы оставшихся в живых преступников. Но модель суда над нацистскими военными преступниками в 1940-х годах не годилась для России 1990-х годов: в Германии трибунал был создан после поражения в войне, и судьями и исполнителями решений суда были иностранные оккупанты[915]. В 1992 году группа коммунистов добилась судебного разбирательства по поводу соответствия конституции президентских указов, изданных в августе и ноябре 1991 года и объявивших вне закона КПСС и КП России. Разбирательство в Конституционном суде, на котором правительство представлял Сергей Шахрай, продолжалось полгода, за это время было собрано 36 томов доказательств того, что правящая партия была настолько переплетена с Советским государством и его репрессивным аппаратом, что не заслуживает защиты со стороны российской демократии. 30 ноября судьи (а все 13 судей в свое время были членами КПСС) вынесли соломоново решение, которое подтвердило законность ельцинского решения о роспуске прежней партии, но в то же время запретило преследование отдельных коммунистов и сохранило за ними право организации новой партии, если они того пожелают[916]. В феврале 1993 года была создана Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), которой предстояло играть важную роль в политике на протяжении всего десятилетия.