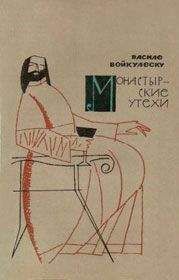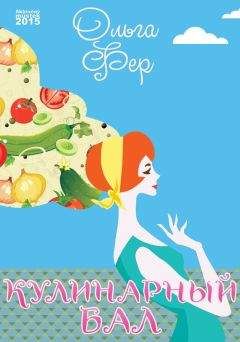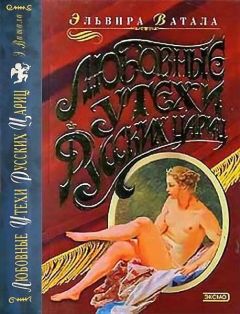Вега Орион - Любовные утехи богемы
И действительно, на ее курносом, задорном лице, в плутоватых глазах бездомной собачонки мелькнуло отражение сердечной печали и обиды».
Горький тоже дал ей денег — в знак уважения к Блоку.
«Санька» ПастернакаДва гимназиста, подталкивая друг друга локтями, наблюдают за дверью над вывеской «Меблированные комнаты». Входят и выходят люди — и мальчики, на их лицах то «взрослое, запретное» — что так властно притягивает их.
Борис Пастернак не воспользовался этим наброском в своей прозе. Но рукопись сохранил среди своих бумаг.
Один из этих детей — а в нем читаются автобиографические мотивы — вырастит и станет студентом позднее, в небольшой повести, а она так почему-то и названа — «Повесть», Пастернак главным героем сделает юного созерцателя, Сережу. Он здорово запутался в своих чувствах. От неясного томления — он пытается его обозначить, определить и безуспешно — Сережа попадает впервые к «страшным» дешевым проституткам. И они — та же Санька — с успехом составляют конкуренцию англичанке-аристократке Арильд — ею Сережа тайно восхищается.
«…Если бы хозяйка спросила, откуда он являлся так поздно, он, не задумываясь, назвал бы ей места своих отлучек. Она это чувствовала и, остерегаясь серьезности, какую он вложил бы в ответ и которую ей бы пришлось проглотить как обязательность, оставляла его в покое. Он приходил оттуда с тем же далеким светом в глазах, что с прогулки в Сокольники.
Одна за другой несколько женщин всплыли в разные ночи на личную поверхность, поднятые привлекательностью и случайностью из несуществования. Три новые женские повести стали рядом с историей Арильд. Неизвестно, почему изливались на Сережу эти признанья. Он не ходил их исповедовать, потому что считал это низостью. Как бы в объяснение безотчетной доверенности, которая влекла их к нему, одна из них сказала, что он словно чем-то похож на них самих.
Это сказала самая матерая и напудренная из всех, самая-рассамая, та самая, что уже до скончанья дней была со всем светом на «ты», поторапливала извозчика такими выпадами на свою знобкость, которых нельзя привести, и всеми выпадами своей хриплой красоты уравнивала все, до чего ни касалась. Ее комнатка на втором этаже пятиоконного домика, кривого и вонючего, ничем с виду не отличалась от любого мещанского жилья из беднейших. По стене ниспадали дешевые шторки, утыканные фотографиями и бумажными цветами. У простенка, крыльями захватывая оба подоконника, горбился раскладной стол. А напротив, у не доходившей доверху перегородки, стояла железная кровать. И, однако, при всем сходстве с человеческим жилищем это место было полной его противоположностью.
Половики подстилались под ноги гостя с редким холуйством и, приглашая не церемониться с квартиранткой, сами, казалось, были готовы подать пример, как ей помыкать. Чужой толк был их единственным хозяином. Все существовало настежь, проточным порядком, как в потоп. Казалось, даже окна обращены тут не изнутри наружу, а снаружи вовнутрь. Омытые уличной славой, как в наводненье, домашние вещи не чинясь и как попадется плавали по широкому званью Сашки.
Зато и она в долгу перед ними не оставалась. Все, за что она ни бралась, она делала на ходу, крупным валом, без спадов и нарастаний.
— Эх ты, Виновата Ивановна! — не слыша своих слов, тихо приговаривал Сережа. Может быть, к нему и вела, от плеча до кисти, ее полная, терявшаяся в далях рука. А может, и не к нему. Вдруг, подобно сухому сену, разом зажглась заря, и вся вдруг, как сено, сгорела. Весь в разбегающихся искрах, занялся день. Тут Сережа почувствовал, что никого еще так сильно не любил, как Сашку».
* * *«Улицы натощак были прямы и хмуры. По их пролетному безлюдью еще носился сизый, сластолюбивый гик пустоты. Сережка шел в Самотеки и за версту от Триумфальной воображал, будто слышит, как Сашке свистнули с тротуара на тротуар. Она же замедлилась, сама игриво любопытствуя, кто кого, то есть кликнувший ли перейдет через дорогу или кликнутая».
Горький-консультантОставаясь непроницаемым для окружающих, Горький чрезвычайно глубоко чувствовал то, о чем он писал:
Екатерина Пешкова вспоминает:
«Он работал тогда над «Жизнью Матвея Кожемякина». И однажды вдруг как-то резко двинулось его кресло за письменным столом — значит, встал… А затем что-то тяжелое упало на пол — и мгновенно наступила мертвая тишина. Ни звука! Вскочила, взбежала по лестнице, сердце стучит так, что в ушах звенит.
На полу около письменного стола во весь рост лежит, на спине, раскинув руки в стороны, Алексей Максимович. Кинулась к нему — не дышит! Приложила ухо к груди — не бьется сердце!
Как я такого большого человека до дивана дотащила — сама не понимаю. Побежала вниз, принесла нашатырный спирт, одеколон, воду, полотенце. Расстегнула рубашку, разорвала сетчатую фуфайку на груди, чтобы компресс на сердце положить, и вижу — с правой стороны от соска вниз тянется у него на груди узкая розовая полоска. Оцарапался обо что-то?
Ушибся? А полосочка становится все ярче и ярче и багровее. Что такое?
Виски ему растираю, руки тру, нашатырный спирт даю нюхать. Задрожали веки, скрипнул зубами.
— Больно как! — шепчет. — Оказывается, ножом…
— Ты что? Что с тобой?
Он как-то разом сел, вздохнул глубоко:
— Где? Кто? Я?
Несколько дней продержалось у него это пятно. Потом побледнело и совсем исчезло… С какой силой надо было переживать описываемое!»
(Горький работал над сценой убийства в одной из глав романа. — В.О.).
Конечно, немало душевных сил вложил Горький и в другое произведение — повесть «Мои университеты», где повествует о первом своем, вполне безгрешном, посещении публичного дома.
«…Но… чаще приходилось мне испытывать бессилие, недостаток знаний, неумение ответить даже на простейшие вопросы жизни, быта. Тогда я чувствовал себя сброшенным в темную яму, где люди копошатся, как слепые черви, стремясь только забыть действительность и находя забвение в кабаках да в холодных объятьях проституток.
Посещение публичных домов было обязательно каждый месяц в день получки заработка; об этом удовольствии мечтали вслух за неделю до счастливого дня, прожив его — долго рассказывали друг другу об испытанных наслаждениях. В этих беседах цинически хвастались половой энергией, глумились над женщинами, говорили о них, брезгливо отплевываясь.
Но — странно! — за всем этим я слышал — мне казалось — печаль и стыд. Я видел, что в «домах терпимости», где за рубль можно было купить женщину на всю ночь, мои товарищи вели себя смущенно, виновато — это казалось мне естественным. А некоторые из них держались слишком развязно, с удальством, в котором я чувствовал нарочитость и фальшь. Меня жутко интересовало отношение полов, и я наблюдал за этим с особенной остротой. Сам я еще не пользовался ласками женщины, и это ставило меня в неприятную позицию: надо мною зло издевались и женщины и товарищи. Скоро меня перестали приглашать в «дома утешения», заявив откровенно: