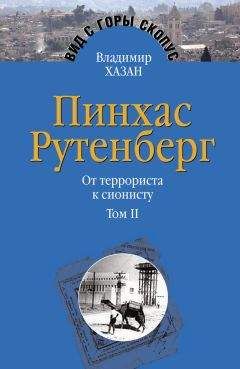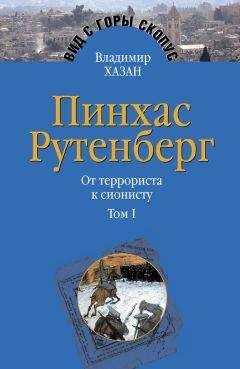Клод Роке - Брейгель, или Мастерская сновидений
Он всегда искал и обретал свет у фонаря народных пословиц, у таинственного солнца библейских притч. Пока он писал эти большие картины, на которых преобладает цвет земли, а пейзаж как бы пытается убежать, но в то же время скован холодным оцепенением одиночества, у него перед глазами стоял рисунок, выполненный им в прошлом году, — гравюру с него сделал Филипп Галле. Гравюру легко принять за обычную икону для простонародья. И действительно, во многих крестьянских домах Фландрии ее пришпиливают к стене на кухне: когда семья садится обедать и все произносят благодарственную молитву, на нее поднимают глаза. Но для Брейгеля эта гравюра — не столько заказная работа, сколько символ веры. Христос стоит в прямоугольном дверном проеме хлева; у его ног теснятся овцы, а одну овечку он держит на плечах. Этот хлев — тот самый хлев Рождества, в котором маленький Иисус когда-то лежал в яслях, на соломе; но в то же время открытый проем — проем гробницы, из которого Христос выйдет, победив смерть. Так что же, это одно и то же место — тот грот, куда приходили пастухи и волхвы, и та совсем новая гробница, в которой Господь Наш преодолел смерть, как преодолеем ее все мы? Родившись, Он спустился в долину смерти, подобно каждому из нас; приняв смерть, Он родился для Воскресения. Вот Он стоит в прямоугольном дверном проеме. Сказано ведь: «Я есмь дверь».[111] Каждый может прочитать написанные на верхней перекладине двери слова: Ego sum ostium ovium. Joha. 10.[112] И если не помнит этих слов наизусть, открыть Библию: «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но пролазит инде, тот вор и разбойник; А входящий дверью есть пастырь овцам: Ему придворник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их; И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его; За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое Он говорил им. Итак опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам».[113]
Через пролом в крыше протискиваются толстые воры; другие проделали дыры в стенах и пытаются вытянуть через них добычу; солдат, монах, простолюдин — все они хватают овец за ноги или за загривки. Хлев построен у подножия горы. Если бы перед нами в самом деле было изображение Рождества, мы бы увидели на горе ликующих, забывших о морозе пастухов! А также ангелов, которые, как и пастухи, играют на флейтах и волынках. Но на этой гравюре в левом верхнем углу изображен добрый пастырь, который полагает жизнь свою за овец; в правом же — нерадивый пастырь, который оставляет овец и бежит. Христос сказал: «Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня».[114] И еще: «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец».[115]
Так что же делал Брейгель в апреле 1566 года? Был ли он настолько поглощен надвигающимися событиями, что на время забросил карандаши и кисти? Или, напротив, полагал, что его долг — выражать свое возмущение какими-то сторонами жизни и свои надежды на лучшее, создавая картины? Невозможно, чтобы он оставался в неведении относительно дипломатической миссии и последующего возвращения графа Эгмонта, политической жизни Конфедерации, «Компромисса». Что он говорил обо всем этом Марии? Что она отвечала ему? Вспоминал ли он тот далекий вечер у Корнхерта, их тогдашние мысли? Мне трудно представить его среди тех, кто восторженно провожал глазами гарцующих молодых дворян, членов новой лиги. Если он и смотрел на них, то скорее с тревогой, чем с надеждой. Тот апрель был на редкость солнечным, радостным, и многие говорили себе, что гнет испанской зимы скоро кончится, — но мне почему-то кажется, что у Брейгеля, когда он смотрел на первую траву в своем садике, пробившуюся у желто-розоватой стены, на душе было тяжело.
Аплодисменты и радостные крики на всем пути следования конного отряда. Колокола отзванивают полдень — и люди готовы поверить, что звон этот возвещает освобождение, праздник. Две сотни молодых дворян (а может быть, вдвое больше), парами, с Бредероде во главе (или он замыкал колонну вместе с Людовиком Нассауским?), сопровождаемые небольшой группой бюргеров Антверпена и других городов, направляются ко дворцу регентши. Она заранее знала об их прибытии и готова их принять. Она уже слышит, как шумит и ликует за дворцовыми стенами и деревьями парка толпа, приветствуя героев — таких юных, таких красивых, воплощающих в себе надежды народа. Она, дочь Карла V и простой служанки из Ауденарде, с радостью удовлетворила бы все требования Вильгельма — но вынуждена повиноваться своему брату, королю. Ей так легко жилось в Парме, во Флоренции! А здесь она должна выполнять свои обязанности в немыслимо сложной, непредсказуемой ситуации. Она знает о страданиях народа и сочувствует ему. Она так устала, что ее начинает знобить. Она плачет. Но подобает ли ей плакать перед членами лиги? «Неужели, Мадам, — обращается к ней один из советников, кажется, граф Берлемонт, — вы боитесь этих нищих?» И тут в зал Совета входит Бредероде, сопровождаемый несколькими дворянами. Это ему поручили зачитать вслух петицию, прежде чем передавать ее регентше. Он и читает — громовым голосом. Необходимо отменить указы Карла V против еретиков: времена изменились, и даже если применять эти указы с умеренностью, сие приведет только к тому, что в скором времени страну охватит всеобщий мятеж. Необходимо упразднить инквизицию в Семнадцати Провинциях, где людей давно от нее тошнит. Наконец, необходимо, чтобы Его Величество соизволил издать ордонанс по религиозным вопросам, с ведома и согласия Генеральных штатов. Петиция прочитана, ее кладут перед Маргаритой Пармской. Бредероде склоняется в преувеличенно глубоком поклоне. Другие члены лиги следуют его примеру. Их излишняя почтительность воспринимается присутствующими как насмешка над регентшей и королем, как предвестие смуты. Сразу после этого делегация покидает дворец Кауденберг — пройдя по галерее, на которой десять лет назад император Карл отрекался от престола, опершись рукой о плечо Вильгельма Оранского, своего пажа. Вспоминают ли они о том дне? Видят ли — вновь — замкнутое, болезненное лицо Филиппа, короля Испанского, речь которого зачитывал Гранвелла, епископ Арраса, потому что сам король не умел изъясняться ни по-французски, ни по-фламандски? Тогда Филипп обещал часто посещать Нидерланды, уважать обычаи, вольности, льготы и привилегии этой страны; защищать католическую веру. Пока кардинал зачитывал его речь, Филипп молчал. Но молчание было очень весомым.