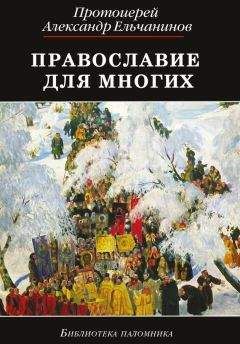Екатерина Старикова - В наших переулках. Биографические записи
Еда все еще продавалась по карточкам. Конечно, по сравнению с тридцать третьим годом в Москве с продовольствием стало легче. То в Москве. Помню, что когда изредка к нашему восторгу мама варила нам макароны, хозяйка дома просила отдавать ей слитую с макарон воду, и дети ее тут же жадно выхлебывали ложками мутную горячую жижу, заедая ее скупым куском хлеба. Дети были примерно моими ровесниками и принимали участие во всех наших играх. Но макароны ели мы, москвичи, а они хлебали от них только отвар.
Я так подробно остановилась на уютной природе Сертякина именно потому, что через два десятилетия я не нашла там почти ничего от бывшей прелести. Дубы у станции еще стояли, но большая часть их была обнесена разномастными заборами, да и недолго оставалось им стоять. Стремительно строилось вокруг Москвы жилье после войны, и, конечно, бесполезные дубы уничтожались в первую очередь, освобождая место под огороды. Спустили пруд, и узкая Петричка еле-еле пробивалась сквозь траву по дну широкого оврага. Неузнаваемо поредели березовые рощи. Полуразрушенным и заброшенным торчал среди Сертякина остов церкви. С трудом нашла я место, где стоял дьячков дом: не было ни столетних лип, ни дома — вместо него какая-то слепленная тяп-ляп глиняная хибара. Я не осмелилась зайти внутрь, но заглянула за дом. И, о ужас, исчезло кладбище! Нет, кладбище-то даже намного расширилось, но ни одного большого дерева на нем не осталось: видно, ими в войну обогревалось Сертякино. Что же говорить о нашем «Покровском», о «Кистеневке»? Голо, пусто, безобразно. И не то чтобы Сертякино принадлежало к тем заброшенным, покинутым деревням, откуда ушли люди. Куда там! Рядом с хибарой на месте дьячкова дома — крепкие, крытые железом дома и редкие телеантенны над ними (ведь только начало 50-х годов). И то сказать: в пяти километрах — громадный Климовский завод, дальше — многотысячный Подольск. Окрестные села втягиваются в их индустриальную орбиту. Но почему же так безобразен у нас этот процесс? Чем липы-то перед крыльцом ему помешали?
Впечатления о лете тридцать четвертого года как-то противоречиво вобрали в себя два главных мотива: безудержное детское веселье на фоне прекрасной природы и ощущение близости смерти к этой цветущей земле.
Еще в июне умер отец Юры Поливанова, и он уехал на три дня в Москву на похороны. И вернулся таким же веселым и еще более хулиганистым, готовым на любое озорство. Но я запомнила одну его фразу, свидетельствующую, что детское озорство не всегда означает бездумность. «Юра, посмотри, как расцвели пионы, пока тебя не было», — это я говорю ему. «Никогда не показывай мне этих цветов! Они пахнут смертью», — отвечает мне он. И никогда больше мы не упоминали ни об его отце, ни о пионах.
А вскоре в соседнем с нами доме умерла дочь священника. Она была молода, двадцати с небольшим лет, и она долго чем-то болела. Мы, дети, бывало навещали ее. Привезет мама из Москвы что-нибудь вкусное, например, выдали по карточкам сырковую массу с изюмом (наверно, вместо масла). «Отнесите Нине. Может, хоть немного съест». И мы гурьбой входим в комнату, где под образами лежит бледная-бледная, улыбающаяся нам молодая женщина. У нее самой была двухлетняя дочь, и женщина всегда улыбалась нам. И вот Нина умерла. И взрослые нам сказали, что ее отец просит нас, детей, собрать побольше цветов для похорон. И мы весело понеслись по еще не кошенным лугам, нарывая охапками незабудки, лютики, дрему, колокольчики, погремки. Июньские цветы быстро вянут. И когда гроб в сопровождении трех священников, облаченных в сверкающие на утреннем солнце золотые ризы, понесли мимо нашего дома в церковь, пахло уже не цветами, а сеном, и вянущие головки незабудок свисали с края гроба вниз, к нам. Мы были горды, что принимаем участие в таком важном событии. И в церкви стояли тихо и чинно. Молодая женщина с таким же белым, как и при жизни, лицом была прекрасна, и сон ее казался естественным, а запах вянущих трав мирным и привычным. Это были первые для меня похороны, они не несли нам, детям, ни горя, ни страха. Смерть почти незнакомой юной женщины слилась с ярким ощущением природы и ее естественных перемен.
Прекрасно помню, что именно в Сертякине я узнала новое для себя слово «зарница». Когда давно уже поднялись и испарились душистые июньские туманы, застилавшие по вечерам луг за нашими окнами, когда не только осыпались пионы, но и была съедена вся земляника с окрестных полянок, когда в палящий июльский зной мы шумно отпраздновали Ольгин день, одарив маму букетом ромашек и васильков с вложенными в него тяжелыми ржаными колосьями и заев именинный пирог только что поспевшей малиной, вот тогда-то и наступили темные-темные «воробьиные» ночи. И я впервые в своей десятилетней жизни увидела в маленькие дьяковские окошки молчаливые тревожные всполохи. «Что это? Ведь грома не слышно». — «Зарницы», — сказала мама. И навсегда это слово слилось для меня с молчаливым лугом и тихим деревенским кладбищем.
А после жарких «воробьиных» ночей наступили, как и полагается, дожди. Сходив за грибами, промокнув и обсушившись, мы собрались всей гурьбой в нашей комнате. Приходили и хозяйские дети, и деревенские соседи — три мальчика, жившие за домом священника. Мама и старшая из нас Пультя занимали кресла, нахальный Юрка и маленькая Лёля устраивались на диванчике под окнами, остальные рассаживались прямо на полу. Пока было светло, мама читала нам Пушкина. Кажется, это была единственная книга, взятая нами в деревню. Но вот наступали сумерки. В Сертякине электричества не было. Керосин экономили, и лампу не зажигали без особой нужды. И тогда мы начинали петь. Запевала, конечно, мама, подхватывал Алёша, постепенно в хор вступали все остальные, я же — последней, чтобы не слышно было моих фальшивых нот. Это был разгар наших «русских» увлечений, и вот тут, в Сертякине, мы главным образом и упражнялись в пении народных и псевдонародных русских песен. При словах «удаль молодецкая» в песне «Эх, звончей, быстрей, бубенчики…» я вглядывалась в гаснущих сумерках в красивое и строгое лицо моего соседа-ровесника Вани Скотникова и представляла его в собольей боярской шапке. Как князь Серебряный. Это над его крышей в 1953 году я обнаружу самую мощную в деревне телеантенну и прикину: ну, конечно, в этом некогда нищем доме должны были вырасти как-никак три работника. Если выжили в войну. Вряд ли.
А где же наш папа? Среди детских, молодых и не очень еще старых лиц того лета я почти не вижу его лица. Вот длинные черные косы и антрацитовые глаза под широкими бровями Пульта; вот золотисто-розоватая, очень женственная Лери; вот синеглазый озорник Юрка на самом верху вековой липы поет на всю деревню известную в те времена уличную песню: «Полюбила она хулигана за его голубые глаза»; умилительно крошечная четырехлетняя Лёля, курносый шустрый Алёша, бодрая оживленная мама, подвижная Малёля с ее гибкой, несмотря на возраст, фигурой, густыми русыми волосами и широким простоватым лицом… А вот даже мамин дядюшка Михаил Александрович Краевский, этот брюзгливый барин с ухоженными загнутыми вверх усами. Как однажды в Сертякине он меня удивил! Облаченный в длинный брезентовый пыльник, он шел по жаркому клеверному полю рядом с обозом груженных возов, на которых вверху сидели бабы, и обменивался с ними отборнейшей матерной бранью. Я знала, конечно, что эти слова непристойны и запретны, но никак не ожидала, что услышу их от кого-нибудь из своих родственников.